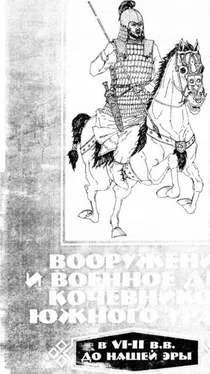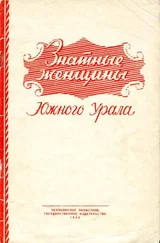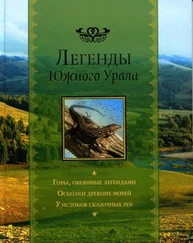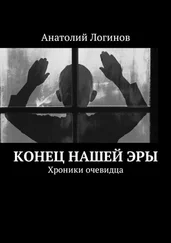География военной активности поздних прохоровцев представляется нам следующим образом.
Северное направление. В рассматриваемый период III-II вв. до н.э. значительно увеличивается население караабызской культуры, в конце этого времени появляются ранние пьяноборские памятники. По данным В.А.Иванова, военная организация племен караабызской культуры находилась на довольно высоком уровне [Иванов, 1984. С.72-73], в отличие от пьяноборцев, обитавших севернее. Комплекс вооружения и структурная организация обитателей городищ Центральной Башкирии с учетом местной специфики (возможность активной обороны из-за укрытий) не оставляли номадам шансов на успех в открытых военных столкновениях. Несмотря на то, что вооруженные конфликты могли иметь место, в целом отношения тех и других нам представляются мирными. Погребальные памятники иллюстрируют факты взаимного проникновения двух материальных культур.
Западное направление военных походов кочевников III-II вв. до н.э., по нашему мнению, являлось бесперспективным. Отсутствие перечисленных выше стимулов в рассматриваемый период дополнилось еще одним, на наш взгляд важным препятствием, для опасных военных предприятий за Волгу. Мы имеем в виду резкое увеличение численности номадов Волго-Донья, объясняемое массовой миграцией прохоровских племен из' Южного Приуралья. Судя по археологическому материалу, комплекс вооружения нижневолжских кочевников не уступал по своему ассортименту южноуральским. Первые же в случае войны могли иметь существенное численное преимущество. По данным М.Г.Мошковой, на 1974 г. [Мошкова. 1974. С.10] погребений III-II вв. до н.э. в междуречье Волги и Дона насчитывалось 305, в то время как в Приуралье - только 96. За 20 лет полевых исследований в южноуральских степях положение существенно не изменилось, в то время как в Поволжье, материалы интересующего нас периода продолжают увеличиваться.
Южное направление. Лишь косвенные данные позволяют предполагать наличие военных контактов кочевников рассматриваемого периода с южными соседями. Так, например, возведение в левобережном Хорезме сети пограничных крепостей и укрепленных поселений, явно противокочевнической направленности, свидетельствуют, что население оазисов раннекангюйского времени, могло стать объектом грабежа северных номадов. Появление "сарматоидных" комплексов позднепрохоровского облика в районе Саракамышской дельты Аму-Дарьи (Туз-Гыр) и Согда (Лявандак, Кызыл-Тепе,. Кую-Мазар) говорит о постоянном присутствии степняков на границах Хорезма и прямой их инфильтрации в бассейн Заравшана [Трудновская, 1979. С.101-110; Обельченко, 1992. С.221,227]. Многочисленные предметы среднеазиатского импорта, находимые в погребениях III-II вв. до н.э. подтверждают тезис о четко налаженных экономических связях, что само по себе не исключает и отношений военного характера.
Рассматриваемый период - время бурных политических событий на арене античных государств Средней Азии, отделенных от могильников Южного Урала всего лишь 30-45 днями "караванного" хода, событий, где по общепринятому мнению кочевники играли ведущую роль. Это время становления молодого Парфянского царства, проходившее в ожесточенных войнах с Селевкидами, время разгрома Греко-Бактрии. Мы не имеем прямых доказательств об участии номадов рассматриваемого региона в этих событиях, однако К.Ф.Смирнов гипотетически допускал такую возможность [Смирнов, 1989. С.175]. Другой исследователь среднеазиатских древностей О.В.Обельченко, опираясь на значительный археологический материал с территории Согда, прямо говорит о завоевании сарматскими племенами областей, которые контролировали эллины, и полагает, что указанные кочевники принимали непосредственное участие в крушении последнего греческого царства в Азии [Обельченко, 1992. С.227, 230].
Заключение
Набор вооружения племен VI-V вв. до н.э., как это видно из настоящей работы, носит вполне сложившийся характер. Где происходило формирование, и принятие на вооружение мечей и кинжалов, наконечников стрел - пока неизвестно. Однако отсутствие в степной полосе региона твердо установленной генетической линии развития этих категорий вооружения не позволяет сделать другие выводы. Вполне вероятно, что кочевники дахи и массагеты, заселившие степи Южного Урала в VI в. до н.э., привнесли сложившиеся формы этого оружия с собой, во время своей миграции с юга, либо восприняли их в готовом виде у "скифоидного" населения лесной зоны Волго-Камья.
Читать дальше