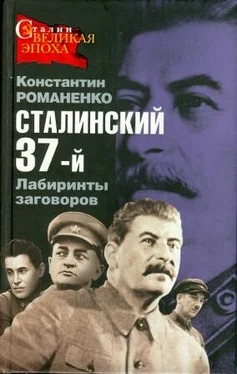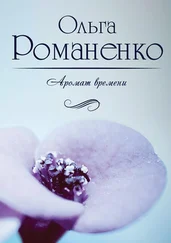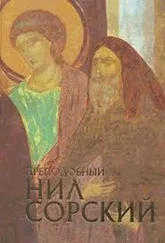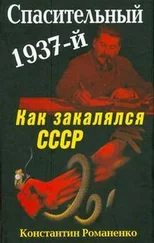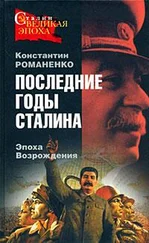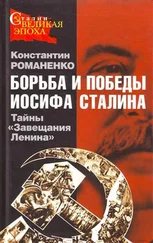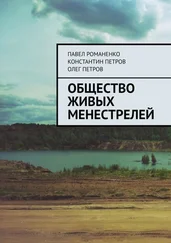Константин Романенко
Здесь есть возможность читать онлайн «Константин Романенко» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Константин Романенко
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Константин Романенко: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Константин Романенко»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Константин Романенко — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Константин Романенко», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Что делать дальше? Этот вопрос не мог не возникнуть перед Сталиным. Однако он видел, что коллективизация вышла из-под его контроля; действия радикалов походили на провокацию. Необходимо было резко изменить ситуацию, и тогда он предпринял неординарный и блестящий ход. Он заявил о своей позиции гласно, указав на перегибы и злоупотребления как на «Головокружение от успехов».
Конечно, это было размежевание со «старыми большевиками». Более того, публичное одергивание экстремистов не могло не вызвать недовольства у руководителей, осуществлявших эту кампанию. Уже хотя бы потому, что оно подрывало их авторитет. И это не были тихие и послушные фигуры; участники революции и Гражданской войны – эти партийцы прошли огонь, воду и медные трубы. Не будет преувеличением утверждение, что в случае объединения усилий в противостоянии его позиции и линии этих не склонных к сентиментальности будущих участников «съезда победителей» не смог бы остановить даже Сталин.
Но в 1930 году ситуацию необходимо было прояснить незамедлительно. Причем о дискредитации самой идеи коллективизации не могло быть и речи. И Сталин опубликовал свое знаменитое «Головокружение от успехов»...
Указывая на успехи колхозов, выполнение плана по хлебозаготовкам и семенам для яровых посевов, Сталин в своей статье отмечал, что там, где коллективизация была хорошо подготовлена, «крестьяне имели возможность убедиться в силе и значении новой техники, в силе и значении новой коллективной организации хозяйства». Он сделал вывод: « Коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным ».
Вместе с тем он подверг острой, серьезной критике действия властей на местах. «Они, – писал он, – эти успехи нередко пьянят людей , причем у людей начинает кружиться голова от успехов, теряться чувство меры , теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы противника, появляются авантюристические попытки «в два счета» разрешить все вопросы социалистического строительства».
Очевидно, что в этой его гневной филиппике проступает раздражение. Это возмущение дураком, который, научившись «молиться богу», разбивает себе лоб. По существу, он указывал, что услужливый дурак – опаснее врага. Сталин редко проявлял эмоциональность публично. Но здесь он не скрывает своего раздражения: «Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! Я уже не говорю о тех, с позволения сказать, «революционерах», которые дело организации артели начинают со снятия с церквей колоколов. Снять колокола, – подумаешь, какая ррреволюционность!»
Он отметил, что успех политики коллективизации был предопределен, но его достижение основывалось на добровольности, а не на насилии: « Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо реакционно . Колхозное движение должно опираться на активную поддержку со стороны основных масс крестьянства... Можно ли сказать, что принцип добровольности и учета местных особенностей не нарушается в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению...»
Одновременно Сталин критиковал стремление распространить в качестве наилучшей формы хозяйства коммуну. Он пишет, что «основным звеном колхозного движения» является не коммуна, а артель, но в артели «не обобществляются приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот, птица и т.д.».
Он осуждает методы, доводившие коллективизацию до абсурда. Они не были предусмотрены его планами. Сталин правомерно пишет: «Дразнить крестьянина-колхозника «обобществлением» жилых построек, всего молочного скота, всего мелкого скота, домашней птицы, когда зерновая проблема еще не разрешена, когда артельная форма колхозов еще не закреплена, – разве не ясно, что такая «политика» может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам ?»
Отмечая допущенные «искривления», он поясняет, что «теми, кто сгоняет крестьян в коммуны», ставится под угрозу решение зерновой проблемы. Это обвинение ретивых обобществителей в «разложении и дискредитации» колхозного движения; объявление их методов провокацией – действиями, «льющими воду на мельницу наших классовых врагов».
Призвав партию положить конец «искажениям» и настроениям, порождавшим их, Сталин заключил: «Искусство руководить есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать – значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забежать вперед – значит потерять массы и изолировать себя. Кто хочет руководить движением и сохранять вместе с тем связи с миллионными массами, тот должен вести борьбу на два фронта – как против отстающих, так и против забегающих вперед».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Константин Романенко»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Константин Романенко» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Константин Романенко» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.