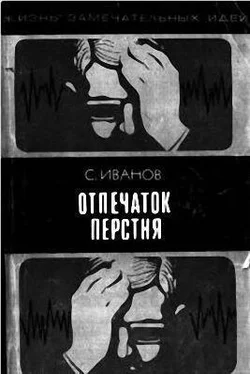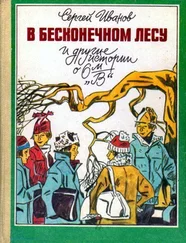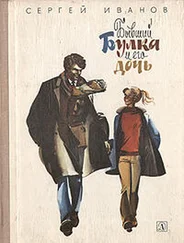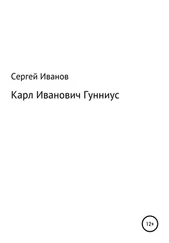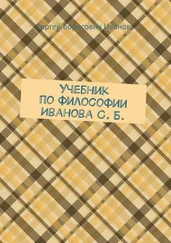Несмотря на то, что объем памяти вычислительных машин достиг внушительных размеров и в ближайшем будущем обещает вырасти в сотни, а может быть, и в тысячи раз, эта память тоже не имеет ничего общего с памятью живых существ. Некоторую аналогию с машинами мы, правда, находили у обладателей закрытых инстинктов, действовавших по жестким программам. Нам могут возразить, что существуют самообучающиеся программы. Но метод самообучения и его границы предусмотрены составителем программы и всегда подчинены определенной задаче, придуманной тем же составителем. Ни научиться чему бы то ни было, ни что-нибудь запомнить сверх того, что заложено в программе машина не имеет права. Если это и случается, то не потому, что у машины появляются особые намерения, а потому, что в ней нарушается режим работы. Когда машины научатся сами себе составлять программы, выбирать себе задачи по вкусу и решать их в зависимости от настроения, мы пересмотрим свою точку зрения. Покуда же этого не произойдет, их память останется не чем иным, как складом закодированных сведений, который наполняет человек для удовлетворения своих «вычислительных потребностей» – своих, а не машины. В отличие от гусеницы и даже от асцидии, у машины никаких потребностей нет.
Чтобы не осталось недоговоренности, завершим наш обзор памятью живых тканей, не выделенных из организма. Движения, которые мышца научилась выполнять, запомнила не она, а нервные центры, управляющие движениями. И хотя благодаря упражнению всякая мышца растет и крепнет и ей действительно все легче становится совершать определенное действие, она, подобно любому механизму, ничего не делает по своей воле. Двигательная память заключена в центральной нервной системе. В дальнейшем нам придется обстоятельно рассматривать все нарушения памяти. Сейчас, пользуясь случаем, мы упомянем о двух из них: они хорошо показывают, на ком лежит ответственность за запоминание движений. Неврологам давно известно явление апраксии (в переводе с греческого – бездеятельность). Человек не может ни написать свое имя, ни застегнуть пуговицу, ни взять ложку со стола. Рука его движется мимо цели, он словно забыл, как все это делается. В прежние времена апраксию и называли потерей памяти на двигательные навыки. Но забывание тут чисто внешнее: больной все прекрасно помнит, и мышцы у него не успели ослабеть. Ослабли не мышцы, а их связь с управляющими центрами. Кровоизлияние поразило либо ту зону коры, где сосредоточен механизм обратной связи, получающий сигналы о положениях двигательных органов и посылающий к органам команды, корректирующие дальнейшее движение, либо соседнюю зону, которая контролирует автоматическую работу двигательных стереотипов вообще. На апраксию похожа двигательная, или моторная, афазия (буквально – онемение). Кровоизлияние или опухоль поражают центры, управляющие движениями мышц гортани, языка, губ и щек – мышц, участвующих в речи. Кажется, что больной забыл все вплоть до междометий. Но он ничего не забыл, и мышцы его ничего не забыли. Если последствия кровоизлияний будут ликвидированы, мышцам учиться всему заново не придется.
Нервным клеткам мы тоже пока вынуждены отказать в самостоятельной памяти, хотя к отпечаткам они имеют самое прямое отношение. Американскому физиологу Дж. Моррелу и советскому физиологу О. С. Виноградовой удалось научить отдельную нервную клетку, нейрон, реагировать на световые вспышки так, что реакция ничем не отличалась от условного рефлекса. Нейрон, правда, быстро забывал урок, но дело было даже не в этом. Сам по себе он так же несамостоятелен, как мышца, усик вьюна или полупроводниковый диод. Это всего лишь одна из многих миллиардов деталей мозга. Нейрофизиологи говорят о его памяти главным образом потому, что при определенных условиях он служит им моделью некоторых механизмов памяти, присущей целому мозгу, или, вернее, его обладателю. Впрочем, поразмыслив над опытами в Новосибирске, мы, пожалуй, воздержимся от категорических утверждений насчет памяти нейрона.
Попытки широкой трактовки памяти, угаснув в конце 20-х годов нашего столетия, вспыхнули вновь в связи с рождением кибернетики и, главное, с дилетантским увлечением ее идеями. Увлечение прошло, но «последействие» осталось, и расстановка всех памятей по своим местам не кажется нам делом запоздалым и неуместным. Вместе с тем на примере растений и клеток нам хотелось показать, что никакая расстановка и классификация не может считаться окончательной. Это всего лишь плод «здравого смысла» определенного этапа. С каких позиций будут судить о памяти в конце столетия, сказать уже трудно. Единственное, что можно утверждать, это то, что основные руководящие начала, и в первую очередь критерий Рибо, останутся в силе.
Читать дальше