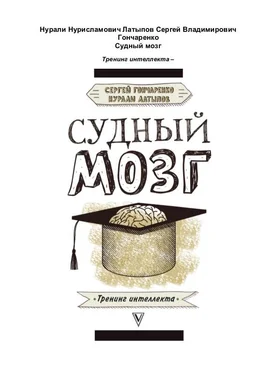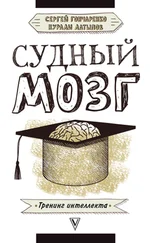Этот конфликт наглядно показывает трудность оперирования понятием «произведение искусства». Скульптура по традиции считается видом изобразительного искусства. Но степень подобия скульптурного изображения оригиналу может варьироваться в очень широких пределах. И в какой момент скульптурное изображение, всё более удаляющееся от оригинала, перестаёт быть произведением искусства и становится «металлической утварью»? На этот вопрос так же трудно ответить, как на вопрос о том, где проходит граница между домом и его развалинами, между лошадью с хвостом и лошадью без хвоста и т. п. К слову сказать, модернисты вообще убеждены, что скульптура – это объект выразительной формы, и вовсе не обязана быть изображением (Ивин, 2009).
Зрительная прелюдия и финал
Процесс зрительного восприятия идет ступенчато, и на каждой последующей его стадии человек становится все ближе к синтезу в своем сознании цельности воспринимаемого образа. Специалисты сходятся в том, что зрительное блуждание по изображению имеет стимул – в конце концов вознаградить человека эстетическим удовольствием. В этом смысле глаз трудится, чтобы пройти путь «прелюдия-оргазм», если пользоваться общепонятной аналогией. Эстетические критерии уже введены в мозг воспитанием и обучением и, конечно же, они зависят от их характера, а то и от субъективного настроения человека – поэтому далеко не всегда и не все зрители посчитают произведение конкретного живописца гармоничным. Так или иначе, зрительные сигналы о рассматриваемом объекте сравниваются в мозгу с определенной информацией об эстетических законах, хранящейся в соответствующих долях.
При этом законы эстетики не столь просты, они многоаспектны (к примеру, в изобразительных формах они охватывают такие понятия, как контраст, насыщенность цветов, характер их сочетаний, масштабность, пропорции и многое другое). Поэтому в распознавании объекта участвует целое «семейство» различных центров – как зрительной системы, так и памяти. Художник-профессионал, естественно, должен и сам владеть законами гармонизации изображения – примерно так, как ими владеет природа, порождающая красивую бабочку. Только тогда его произведению гарантирована положительная эстетичная оценка сразу в нескольких долях зрительского мозга.
Книги в качестве интеллектуальных гантелей
Контакт с книгой, особенно если он сопровождается активным знакомством с ее содержанием, влияет на работу мозга. У науки для отслеживания подобного воздействия имеется мощный исследовательский инструмент – аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Он дает возможность наблюдать, как циркулирует кровь в мозгу. У читающего человека метод МРТ выявил разницу в этой циркуляции – в зависимости от того, совершалось чтение ради развлечения или же оно требовало аналитической, подробной работы. Сама смена видов чтения резко меняла картину кровообращения, а любой из этих способов чтения вызывал прилив крови к участкам мозга, которые активируют его функции, отвечающие за концентрацию внимания и познания.
Естественно, эффект мыслительного процесса зависит от приложенных во время чтения усилий. По мнению Льюиса Кэрролла, один час сосредоточенного размышления на какую-нибудь тему… стоит двух или трёх часов «просто» чтения. Постарайтесь мысленно упорядочивать всё прочитанное, осознанно помогая мозгу – мышлению и памяти – разбивать его по рубрикам и раскладывать по полочкам: это позволяет внутреннему «библиотекарю» при необходимости с лёгкостью находить интересующие сведения, относящиеся к прочитанному и глубоко осмысленному материалу.
Знаки умственного труда
Люди часто сопровождают процессы размышления бессознательным рисованием разных изобразительных форм: узоров, знаков, просто закорючек и «непонятных» каракулей. Само же мышление картинками психологи называют эйдетическим. В этих случаях используются способности человека видеть, и картинки превращаются не в способ доведения информации, а в средство мышления. Это можно часто видеть на планерках, переговорах, собраниях, когда поля бумаги могут покрыться беспредметной графикой. В подобных случаях бумага превращается в монитор мозга, своеобразно отображающий происходящие в нем процессы. Бесчисленными «почеркушками» изобилуют рукописи Пушкина. Поэтому, например, не следует одергивать ребенка во время подобного занятия, приравнивая его к глупому действию – таким способом мозгу просто легче оставаться в проблеме, обеспечивать более цельную, многоаспектную обработку информации, которая касается решаемой задачи. Какими бы бессмысленными ни казались каракули, оставленные после такой работы, они подсознательно подчинены принципу двойственного восприятия. В обычной ситуации этот принцип означает способность человека присваивать предметам качества и параметры, не свойственные им в действительности (например, палка – это «меч»). В случае же упомянутого выше спонтанного «сопроводительного» рисования графические знаки отображают работу самого мозга благодаря той связи, что существует между мышлением, решением проблемы и «выплеснувшимися» на бумагу росчерками.
Читать дальше