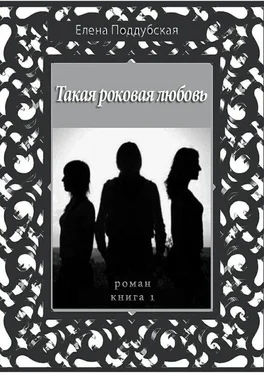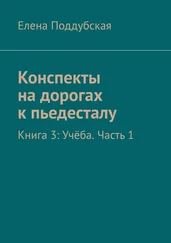– Тю! Так, поди, и мне он не чужой, дом-то: батька с маткой здеся жили, нас р о стили.
Надежда, дивнувшись похвале, отпряла от брата, внимательно оглядывая.
Только теперь она заметила, как посреди высокого лба Николая наметилась поперечная складочка, которая со временем точно углубится в морщину, что разделит лоб на две части. И тёмных кругов под глазами, пока слегка заметных, но уже непроходящих, вечных, залегших, тоже Надежда с утра при встрече не углядела. А теперь вот обратила внимание и задумалась: «Отчего это в столь молодом и сильном на вид мужике, как их Николай, проглядываются такие почти что аристократические признаки хилости и утомлённости?».
И, всматриваясь получше, уже сомневалась Надежда её ли это кровь? Тот ли брат, всегда казавшийся человеком уверенным и знающим жизнь? Не от того ли эти губы под пышными усами так сжаты, что хотят сказать что-то, да не могут? Не потому ли столь беспокоен и растерян взгляд, что не знает в какую сторону смотреть? И сам этот человек, такой знакомый и родной, не кажется ли ей чужим, от того, что пообтёрся он на чужбине, пообтрепался, поднабрал в себя других, незнакомых нравов и порядков, а теперь вот, при возвращении, никак не желает вписываться в местные рамки, и даже взглядом своим выражает недопонимание и непримирение?
«Нет, изменился Коля, изменился. Сосем другой стал», – расстроилась Надежда, а вслух спросила.
– Ты, Коляня, сколь времени жить собираешься в доме-то?
Не упустив из вида пристальное рассматривание сестры, Николай вновь тяжело вздохнул и полез в задний карман джинсов за сигаретами.
– Да поживу, – ответил он неопределённо, снова осматриваясь, – Наличники вот на окнах поправить надо. Крышу проверить: может где перестлать придется. Баню обсмотреть; кажись обшить заново понадобится.
– Понадобится, – радостно подхватила Надежда. Заботы брата о доме вновь вернули ей надежду. – В бане-то мы давненько не бывали. У нас в Калинках и душ, и туалет. Хотя, все одно, ничто бани не заменит, пара ейного, – добавила она, подумав. Пошарив в кармане сарафана, Надежда вытащила конфету и предложила брату. Он со смехом приподнял сигарету.
Надежда развернула ириску, стала жевать.
– А обшить и Иван собирался. Предбанник ведь сосем никуда не годный, выстыват зимой вмиг. И печку надо бы перебрать, расширить: тяга хорошая, но пригорат. Да каменьев маловато, греть дюже долго. Особо ежели с ребятишками моесся, – объяснила она со знанием, разглаживая на перилах фантик с золотым ключиком.
– Значит – расширим, – Николай сладко затянулся, – Ты ничего, что я курю? – отмахнул он дым, – А то я отойду.
– Да ладно, стой уж. Чего? – разрешила Надежда, – Иван мой ведь тоже смолит, как окаянный. Я его вечно зимой в сенца гоняю, чёб детям лехкие не засорял едкостью табачной. Да ещё чёб Егорку не сманивал гадостью этой.
– Егорке-то твоему рановато, поди, про курево думать, – засомневался Николай.
– Ага, рановато: чай, десятый годок пошел Егорке-то.
– Я и говорю: рановато.
– Ой, Коляня, не прикидывайся ты агнецом, – вскинула руками Надежда, – Сам с Володькой Окуньком во сколь лет балов а ться начал, кода пацаном был? Не помнишь? Как мамка у тебя из карманов штанов махорку впервые вытряхнула и полотенцем потом по двору гоняла, не помнишь?
– Так мне сколь годов-то было? Уже верно поболее.
Николай силился вспомнить. А Надежда тут же вставила:
– Девять.
Николай на втяге даже замер, до того не поверил сестре:
– Не может быть?!
– Вот те и «не может быть»! Говорю – девять. Я здорово это запомнила. Потому, как в тот год дед Семён умер, и бабы голосили, что Окунёк сосем мал о й, и десяти ещё нет.
– Точно, – вспомнил теперь и Николай и протяжно выдохнул струю дыма. Затем затянулся опять, помолчал чуток и вновь вспомнил. – Махорку-то мы с Вовкой у деда Семёна как раз и таскали. А потом, когда он умер, бабка Маруся Вовке махорку сама покупала. В Калуге. И украдкой от матери давала. Чтоб бычки не подбирал.
Воспоминания о детстве затронули в Николае ту болезненную струну, что давно уже была в нём натянута, а в последнее время так особенно. После смерти родителей словно что-то в мыслях пошатнулось. Николай хорошо помнил, как вернулся в Москву после похорон отца, сел в общежитской комнате на кровать и, впервые с момента ухода родных, заплакал. Всё время, что он был в деревне на похоронах, и после на поминках, Николай не проронил ни слезинки. А тут неожиданно вдруг залился неостановимым безутешным потоком, омывая память горючими слезами. До боли было обидно, что всё, что случилось, случилось когда его не было рядом. Не на его глазах умирала мать: он приехал уже когда она была в забытьи и никого не узнавала, оттого и проститься с ней толком не получилось. Надежда плакала за поминальным столом, что на то была материнская воля: не хотела она верить, что скоро век её закончится, всё надеялась на встречу с сыном при добром здравии, как поправится. А вот ведь вышло так, что как определили причину её головных болей, и не встала больше с кровати. Головой-то она маяться начала ещё смолоду, оттого и лечиться с возрастом отказывалась. Всё отмахивалась за нехваткой времени, всё лекарства «проверенные» глотала. А уж как болеть стало до помутнения в глазах да до потери сознания, тут-то и повезли её Надежда с Иваном в Калугу. Везли с верой, что излечат. А врачи посмотрели на снимки, энцефалограмму сделали и сразу объявили, что жить матери осталось недолго. У неё был обширный рак головного мозга. Матери ничего про обещания врачей не говорили. Да она ничего и не спрашивала. Без опросов догадывалась, что дела её плохи. И, как ни упрашивали её отец с Надеждой сообщить о болезни Николаю, всё не соглашалась.
Читать дальше