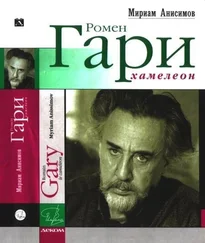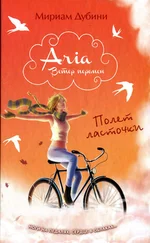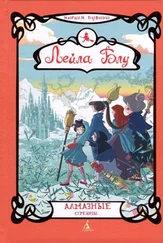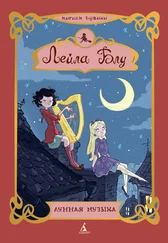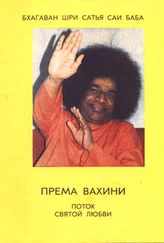– Вы в порядке? – спросила она.
– Какое сегодня число? – вопросом на вопрос ответил я.
– Двадцатое февраля, – ответила женщина.
– Расскажи мне все, что ты знаешь о вчерашнем дне.
– В стране произошел переворот, – все, что она сказала.
***
Не хочу лезть в политику, но президент некогда братского нам народа поступил с нами, как паршивая овца. Пользуясь беспомощным состоянием в моей стране, другая страна ввела свои войска и наглейшим образом отобрала у нас часть государства. Люди стали заложниками территории, и под манипулятивным влиянием медиа много семей раскололось на два вражеских табора. Началась страшная война, о которой не говорили ни по каким телевизорам, даже по нашим. В дни Великого поста православные убивали православных, оккупанты разграбливали города и села, насиловали женщин и убивали детей и стариков. Гаагская конвенция 6 6 международный договор о законах и обычаях войны
была всем до одного места. И самое страшное то, что нельзя сказать с полной уверенностью, кто был врагом: люди по ту сторону фронта или по эту. Под чьим-то нелепым командованием разбивались самолеты и умирали сотни солдат. Мое сердце обливалось кровью.
Первая и вторая волна призыва оставила меня за бортом. Отказ принять меня в ряды солдат ничем не аргументировался. Несколько раз я ходил в военкомат, но там от меня как от защитника отечества отказались. Мне сообщили, что в случае какой-либо нужды со мной свяжутся. Ни имени моего, ни каких-либо контактов у меня не спросили, и моя настойчивость никому не нравилась. На войну призывали безусых мальчишек, а военных или людей с опытом, которые могли бы оказать реальную помощь, отказывались. Что уже говорить обо мне, человеке без опыта, но «с усами». В последний мой визит, когда я попросил бумагу и ручку, чтобы записать свои данные, меня вывели под руку и прошипели: «С тобой свяжутся!» Но никто так и не связался.
Новостная лента превратилась в бесконечный некролог, а просмотр телевизора – в пытку викторианских времен. Статистика смертей неумолимо росла. Народ держали в панике, не давая расслабиться ни на минуту. Силами волонтеров армия хоть как-то держалась на плаву. А тем временем народ нищал, цены беспощадно росли, а национальной валютой можно было пользоваться вместо туалетной бумаги. Ничего другого, кроме фрустрации, новая власть с собой не принесла. Так же, как и их предшественники, они разграбливали казну, набивая карманы кровавыми деньгами. Никто не хотел прекращать войну, потому что, мать вашу, это самое прибыльное дело на свете. От безвыходности люди стали разъезжаться по миру, покидая некогда цветущее государство. Наблюдать за тем, как мучительно умирает огромная страна, было невыносимо. Одинокий, разочарованный, я все чаще и чаще стал прибегать к алкоголю и прочим наркотикам, чтобы хоть ненадолго уйти от реальности.
Вокруг меня было столько ненужной шелухи. Город наращивал меня, как капусту, и от этой церемонии становилось только сложнее. Слой за слоем – и внутри все жарче. Проблемы всего человечества пили на моей кухне чай, политическая свора смывала с себя грязь в моей ванной, а дефолт дремал под потолком. Незваные гости просочили собой воздух, которым я хотел бы дышать, и все мое бытие больше не было мне подконтрольным. Я стал его заложником. Но под чьим руководством я возлагал на себя вину уже за безразличие? Я хотел бы знать, был ли виновен в том, что у меня уже не было желания барахтаться на поверхности бушующего океана и ждать верной погибели? Я нырнул на самое его дно, и картина мира казалась мне куда яснее. На какое-то время мне становилось легче и я не чувствовал себя беспомощным и одиноким. В мире дурманящих средств никогда не бывает одиноко. Там не нужно было ходить, я лишь скользил по поверхности и плавал в пространстве. Не нужно было спать, потому что этот несуществующий мир был лучше, чем сон. Там деревья рассказывали истории своих жизней, рыбы открывали свои тайны, а птицы делились свободой. И в этой безмятежности я был счастлив. Счастлив до тех пор, пока не просыпался в собственной блевотине и с обмоченными штанами. Ужасающая реальность была настолько отталкивающей, что я все дальше и дальше прятался от нее. И круг замыкался.
Кто я, – спрашивал я сам себя, – чтобы судить воздух, которым дышу? Пищу, что услаждает мое чрево, воду, которой смываю грязь? Кто я в пучине собственной жизни – король, путник ли, или не значимей речного камня? Прорастая и засыхая, впитывая воду и загнивая, чьи теплые руки собирают сладкие сливы с моего февральского дерева ветров? Я терял счет морщинам.
Читать дальше