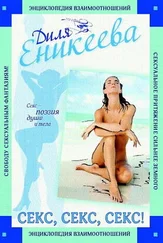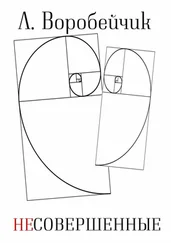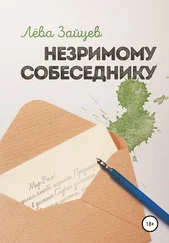Встать бы ей и уйти, плюнув в лицо ему и размазав свою просьбу по переносице – так любая бы сделала на ее месте, нет, так тебе надо было бы однажды сделать; она же будет сидеть и по-своему умолять дальше. Будет подставлять и подкладывать свое тело, пряча под ним обнаженную душу (или что у нее там вместо души); капля яда в сдобренном пряностями блюде, что подают как заслуженную награду. А кому эта душа нужна? Тебе уж точно нет; три ужасных раза болью отдаются в дали твоего сознания, стучат, шепчут: прогони-прогони_её, выставь, забудь. Нет, не душа: сжатие-разжатие руки; ты строил этими руками на протяжении шести лет, а не созидал; теперь они не годятся даже для этого; что же это за слабость, что же с тобой случилось?
– Да? – наконец спрашивает он.
– Я, наверное, должна уйти.
– Ты же знаешь, что я скажу, всегда знаешь – у тебя же есть ключи. Ты всегда можешь поиграть в наложницу, в гостя моего, но не раньше чем…
– Не о том ты. Вообще уйти из жизни твоей. – только и произносит она, повысив голос. Думает, так обратить внимание проще – повысить голос да надеяться, что человек помилует тебя и посмотрит. Только посмотрит в твои глаза и ничего больше. – не могу больше. Так – не могу.
– Так иди. К мужу, к детям.
– Не прикидывайся, я устала. Почему бы тебе не опустить их, они не играют роли, критика твоя мнимая не играет роли, только то, что у нас – глупая роль, без чувства. Я играю, а ты подыгрываешь – я иногда думаю, как, как можно быть таким… – слово утонуло. Пыталась его выразить, облечь в привычную форму, но так и не смогла. Каким «таким», Рита? Разве ты знаешь сама? Ведь все, что ты в нем ненавидишь, все, к чему ты так странно относишься многолико слово дьявол – переливается цветами радуги, по краям шелестя бахромой черного цвета. Каким, знаешь? Наверняка уж. Но сказать это ты вряд ли сможешь – как и не сможешь вынести его взгляда, если он решится все же посмотреть прямо на тебя. Хорошо, что он не смотрит. Хорошо.
– Опять? Надоело уже, ты каждый раз… – Сжимать и разжимать, играть в силу-слабость, в космос-хаос, в четные-нечетные; сжатый кулак похож на точку, разжатый – на что-то вроде длинной запятой, немного похоже, верно; точка – это сила, это конечность. Запятыми же обычно продолжают, чтобы не обрывать – да, в этом слабость. Сжатие, точка. Разжатие, запятая (слабость). Да, только это и имеет смысл, но никак не ее очевидные бредни.
– Но я решила. Да, окончательно. Ты посмо… посмотришь на меня или нет?! – начав тихо, в конце она уже почти кричала. Она такая глупая – с возрастом принимает концепцию тех, других, ставит рамки, стены; возвращается в определенную категорию. Раньше она была другой, когда-то, но и ты, Миша, и ты был другим, до того самого раза двенадцать лет назад.
Ты выдохнул, но не посмотрел. Рита скандалила, но оставалась Ритой. Да, она была зеленоглазым идеалом, выбравшим однажды не ту дорогу, не тот способ; спотыкалась в этом пути, раз за разом цепляясь коленками за ковер; любила, когда громко и любила, когда сонно целуешь ее в живот. Ох, Рита… ты безумна и больна, раз все еще пытается быть под холодной простыней рядом с человеком, больным своим самолюбием, эгоизмом, тщеславием и чем-то подобным, что особенно приятно находить в себе, когда больше ничего-то по сути и не осталось (он все это загоняет в концепцию критики, вот же слово ненавистное). Рита! Весенний налет на щеках и раковая клетка, обнаруженная на диагностике прошлым вечером – так же внезапна, так же хороша и убийственно опасна. Но это все в теории. Вся ее сила кончалась в этой квартире, холодной, белой; вся ее сила теперь казалась странной и вычурной, ненастоящей.
Квартира – более холодный эквивалент женщины; ты любишь ее почти так же, как и хорошую женщину, нет – эту женщину когда-то; белые стены раньше давали успокоения почти столько же, сколь и белые плечи, сжимаемые тобой. Темные полы, картина с бушующим морем в зале, да кровать. Стол да два стула. Вешалки в коридоре, там же маленький комод для одежды – и ничего больше. Абсолютная пустота, белая буря, развернувшаяся в трехкомнатном аде, которую некоторые отчего-то называют своим оплотом, своей крепостью. Некоторые из твоих прежних немногочисленных знакомых считали иначе – по-другому видели свою свободу, заявляя, что стенки и телевизоры – это как раз таки то, что нужно. Дураки, они просто не были у него дома, вот и всего-то. Свобода не приемлет стен так же, как и человек не приемлет этой свободы; одно вытекает из другого почти с той же частотой, с какой даже великие люди убеждают себя в обратном. Да, свобода противопоставлена квадратным метрам, загнанным в толщи стен; однако у тебя этой свободы было вдоволь – просто белый цвет делает все чуточку больше. Только и всего.
Читать дальше