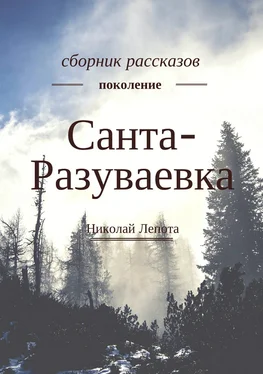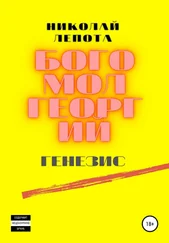У Ваньки у самого в брюхе кто-то пел с самого утра. Что-то булькало и перекатывалось там внутри. Главное, что? Он же ничего еще не ел! Чему там перекатываться-то?
Парнишка тоскливо осмотрел растрескавшуюся печку и вдруг вспомнил, что осенью на ней сушили сырое зерно, которое (чуть не целый мешок!) как-то вечером принес отец. Половину зерна отдали потом почему-то дяде Егору Ветошкину, который тоже унес его поздним вечером по дождю и ветру, Ванька подумал еще тогда, что зря только сушили старались.
– Ну-ка, Шурка, уйди со света, – откладывая календарь и перекатываясь на живот, скомандовал Ванька. Щас мы заместо лепешек, пшеницы наедимся. Потом воды попьешь, и в животе у тебя тесто получится. Будет лежать, киснуть и помаленьку растворяться. Надолго хватит.
Шурка поспешно забилась в угол.
– Подай-ка лучину, – продолжал командовать Ванька. И она беспрекословно подчинилась. «Всегда бы так, – мельком подумал он. – А то разноется, рассопливится…»
Из трещин, паутиной покрывавших печь, Ванька, высовывая от усердия язык, наковырял горсти две пшеницы. Потер ее меж ладоней, очищая от глины, и поделил зерна на двоих старым поржавевшим наперстком, валявшимся на печи.
Наперстком играла Шурка: шила платья куклам понарошку, а Ванька смеялся над ней и над куклами-чурбачками и говорил, что это не куклы, а палки и им платья не нужны. К этому наперстку он не раз присматривался, подумывая – не напялить ли его на палец да не щелкнуть ли Шурку по лбу таким способом? Но боялся матери: расскажет отцу и тот тоже ему чем-нибудь щелкнет… Бил отец чем ни поподя, куда попало.
– Ну, как? – перетирая зубами твердые, высохшие до какого-то деревянного состояния зернышки спросил Ванька и посоветовал: – Сразу-то не глотай. Жуй подольше. Тогда слаще. Комочком еще сделается.
– Да я жую, жую. Уж так стараюсь…
– Без еды человек может жить тридцать дней, – с наслаждением перемалывая твердое зерно зубами, авторитетно заявил Ванька. – А без воды – трое суток.
– Во как! А без воздуха?
– Ну… – Он не знал точно. – С час. А то и меньше.
– И умрет.
– Умрет.
– И даже еслиф наистся?
– Даже. Это не относится. Воздух сам по себе.
Шурка повела носом, принюхиваясь к воздуху в доме. Не верилось ей, что если человек наестся, то может умереть без этого лукового воздуха. Если душить, тогда, конечно, но так… Что-то Ванька врет. Наверно, плохо в школе слушал.
– Набубнился! – Ванька с удовольствием похлопал себя по животу. – Теперь пусть набухает.
– Ага, – умиротворенно согласилась Шурка.
Повеселев, стали дальше смотреть картинки.
– Во, глянь! – Ванька даже жевать перестал.
– Угу, – не раскрывая рот, отозвалась Шурка. Потом, придерживая ладошки снизу, у губы – чтобы зернышки не упали, задирая лицо кверху, сказала: – Едят чо то.
– Каво едят-то? – недовольно процедил Ванька. – Едят… Бестолочь! – (И ее еще не дают по лбу щелкать!)
На картинке у стола сидели какие-то понурые раскосые люди, на столе стояли пустые тарелки. Снизу было написано: «Последний рис съели». Ванька посмотрел на зажатую в кулаке пшеницу, и ему жутко стало от того, что где-то последний рис съели. Дальше-то они как будут?
Тут стукнула дверь в сенках, кто-то затопал, обивая снег. Батя идет. У него бы спросить про съевших последний рис, да подступиться страшно – ходит злой, аж черный, молчит или орет на всех.
В избу, хлопая по плечам и рукавам верхонками, вошел отец Ваньки и Шурки – Иван Чернов. Был он весь в снегу, лицо мокрое и черное.
– М-м-м-м, – заскрипел зубами. – Метет!
И длинно-предлинно выматерился.
– Еле к дверям пролез. Сугробы с крышей совсем вровень. На спине вниз ехал, – и стукнул себя сзади по поле затрепанного полушубка.
– Кабы ночью-то совсем не замело, – думая о чем-то своем сказала мать. Она, склонившись, заглядывала в топку – горит ли?
Ванька наблюдал сверху за отцом. Может, отошел? Разговорится сейчас?.. Матерится-то он всегда матерится, это не беда, но вот когда злой или пьяный, то лучше не подходить: что есть в руках, тем и хватит.
А Иван, устроившись на лавке, выходя из себя, сопел, натужно матерился и никак не мог стащить заскорузлые, загнутые кверху сапоги, обляпанные навозом.
Сырая кирза схватилась на холодном ветру, задубела… В этих же сапогах, скользя и спотыкаясь, он на днях семенил в сторонке от заезжего начальства, заглядывая сбоку на здоровых басистых мужиков, соображая, как бы лучше к ним подступиться.
Там, на ферме, он был совсем другой, никому не страшный, маленький и не то смешной, не то жалкий. В истертом изнутри до кожи полушубке – с большими плешинами на спине, с клочкастым воротником, – подпоясанный для тепла веревкой, с тащившимся по полу бичом, перекинутым через плечо, он шел по соседнему с тем, которым двигалось начальство, проходу и все вострил ухо: ждал, когда начнут ругать председателя, шлепавшего по навозу рядом с гостями в белых новых бурках.
Читать дальше