После таких видений тот сам не свой ходил, а потом и вовсе стал готовить себя к подвигу. Но то, что он сам себе пытался объявить подвигом, на самом деле погибелью попахивало.
Мишаня чуял, что с другом что-то неладное происходит, помалкивал до поры до времени, но глаз с Семена не спускал.
Сема до своего «подвига» недолго созревал, а как созрел, так и подгадал под себя случай удобный. Дождался, когда немец на контратаке будет у нас высотку отбивать, да и поднялся из окопа в полный рост, попер на фрица, щедро поливая из автомата слева-направо, орал дико, с жизнью прощался. Только и в этот раз не судьба была Заварзину голову сложить – Мишаня начеку был. Бросил впереди друга своего две шашечки дымовые и за Семеном вслед кинулся. Сбил его с ног, да по сопатке съездил разок, а потом уже под завесой дымной стащил в окоп.
Видать, высотка та немцу до зарезу нужна была. До вечера еще дважды контратаковал, но отстояли солдатики неказистую эту горочку. Вечером ждала Сему нехитрая солдатская терапия. Навалились разведчики на него оравой, содрали штаны вместе с кальсонами, задрали гимнастерку и стали охаживать в два ремня солдатских. Били немилосердно, без всякой жалости – знали, что ремень больно сделает, а покалечить – не покалечит. Скоро искры, из глаз Семиных снопами сыпавшиеся, обратились сплошным пятном красным. Закричал Семен от боли невыносимой: «За что, братцы? Мишаня, нешто ты мне «языка» того простить не можешь?»
– «Не в «языке» дело, зяма, а в тебе, брат, в тебе. Ну, чего ты на рожон прешь? Костлявая тебя не привечает, так ты сам за ней приударить решил? Я эту болезнь пехотную за неделю чую. От нее лучшего средства, чем ременная терапия не существует – это еще отцы наши в первую войну знали. Через ремень мозги либо напрочь съедут, либо на место встанут. Хлебни-ка вот негрустинчику, да до утра оклемывайся».
Потом Сема часто вспоминал эту порку. Вспоминал и удивлялся – неужели это он, гвардейский разведчик Семен Заварзин сам себе смертушку уготавливал, да еще «подвигом» каким-то прикрывался. А дружку своему беззаветному, за порку ту приснопамятную, Сема стал считать себя обязанным по гроб жизни. Ведь отстал-таки от него Бауэр, не приходил больше. Мало-помалу стала отогреваться душа солдатская. Война – войной, но и на фронте нет-нет, да и выпадет минутка затишья, когда оторвет солдат глаза от кутерьмы кровавой, обернется по сторонам и, вдруг, обрадуется свету белому, щебету птичьему и травам зеленым. Вспомнит он, что где-то далеко-далеко на смоленской земле, с именем его встает и с именем его засыпает родная его мати, ощутит всем своим существом, ею в свет препровожденным, как гонит от него костлявую горячая ее молитва.
А еще – Мишаня…. Где еще встретишь такую душу щедрую, на все обиды не ответную, но изъяна лживого никому не прощающую. А если и стырит что, так не из корысти вовсе, а азарта ради, и для того, чтобы у всех смертных шансы уравнять.
С костлявой у Мишаньки отношения были свои, особенные. Не то, чтобы он от ее ухаживаний бегал, нет. Просто, он ей свиданку назначал если уж не на родном погосте, то, на крайний случай, где-нибудь в Берлине. Она вроде бы и согласилась, да передумала и на свой лад все перекроила. И гнездышко для встречи отвела самое наипрекраснейшее.
Весь Мемель прусский полыхал пожаром, взирал на входящих наших бойцов пустыми глазницами оконных проемов полуразрушенных зданий, а этот флигелек выглядывал из садика чистыми окошками с занавесочками, хвастался новой черепицей. Тут бы и насторожиться Мишане, заподозрить подвох коварный, да уж больно этот флигелек на детскую сказку был похож. Поддался Мишанька сказочному очарованию, решил мечту свою детскую пальцем потрогать, побежал по аккуратной гравийной дорожке, взлетел на крылечко расписное и скрылся за дверью. Минуты не прошло, как вылетели стекла в окнах от взрыва нешуточного, и флигелек враз потерял свое очарование.
Нёсся Сема к флигельку, не чуя под собою ног, тешил надежду, что обойдет лихо друга закадычного, а, влетев в оконный проем, застал Мишаню ползающим по полу. Мишаня с пола потроха свои собирал и деловито складывал их в брюшину, как в портфель распахнутый.
– «Зяма… возле шкапчика посмотри…, не осталось ли чего… Мне ливер мой… коновалам нашим… по описи сдавать надо будет… Они недостачу враз предъявят…».
Возле «шкапчика» чисто было – все подобрал Мишаня, вместе со стеклом битым и крошкой кирпичной валом в себя сложил.
Читать дальше

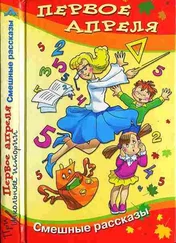

![Борис Ганаго - И дана была встреча... [Сборник рассказов]](/books/85224/boris-ganago-i-dana-byla-vstrecha-sbornik-rassk-thumb.webp)



![Елизавета Магнусгофская - Не убий - Сборник рассказов [Собрание рассказов. Том II]](/books/389585/elizaveta-magnusgofskaya-ne-ubij-sbornik-rasskazov-thumb.webp)




