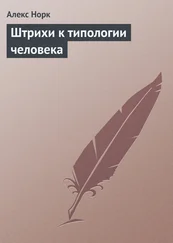Со слухом все, конечно, оказалось в порядке, а вот в голове у юного путешественника перемешались и страны, и города, и континенты, и события. В дальнейшем все, естественно, встало на свои места, а мудреные для этих мест названия объяснились очень просто: здесь были расквартированы части русской армии, участвовавшие в войне с Наполеоном, и солдаты дали названия своим поселениям в память о сражениях, в которых они участвовали, и эти названия сохранились до нашего времени. Мы долго смеялись вместе с Николаем над его детской наивностью, а потом посетовали на то, что со временем, когда становишься взрослым, окружающий мир все больше отделяется от тебя, становится каким-то чужим, недоступным, и ты понимаешь, что только в детстве можно объять его, сделав таким своим, таким близким.
Насколько я помню, моя первая «персональная» выставка состоялась летом 1964 года, когда я отдыхал в пионерском лагере «Березки» по Ленинградской дороге. Лагерь располагался на территории бывшей помещичьей усадьбы, там был красивый пруд с островом посередине и старинная сосновая аллея, но сам помещичий дом не сохранился, на его месте стоял новый, бревенчатый, двухэтажный, в котором мы и жили. Будучи в пионерском лагере, я только и делал, что рисовал и читал, читал и рисовал, иногда с неохотой отвлекаясь на всякие мероприятия, поэтому в моей памяти лето – это запах леса и старых книг, перемешанный с «химозным» запахом туши и гуаши. Я постоянно, независимо от погоды, пропадал в изокружке – рисовал, лепил, выжигал, делал стенгазеты, и в результате удостоился выставки. Помнится, экспозиция состояла в основном из рисунков пером и тушью, изображавших рыцарей на лошадях, гладиаторов и мушкетеров (начитался), а гвоздем выставки была довольно большая скульптура из пластилина – бородатый партизан с автоматом и пальма на острове, контурами напоминавшем Кубу. Выставка имела некоторый успех, особенно у лагерного начальства, и я был удостоен высокой чести спустить флаг лагеря на вечерней линейке (наверно, за актуальность темы, тогда в Советском Союзе был «кубинский бум»). Я до того иногда зарисовывался, что однажды изобразил в стенгазете карту СССР, включив в нее всю Скандинавию и большую часть Западной Европы, за что ненадолго получил прозвище «Захватчик». В конце смены, зная мою любовь к книгам, мне подарили две небольшие книжки «Рафаэль» и «Давид» за активное участие в изокружке. Я берегу эти книжки – мои первые книжки по искусству, заработанные пером и кистью.
Сейчас можно сказать, что с тех пор никаких наград (кроме тумаков) я не получал, да никогда к ним и не стремился. А вот в 1999 году на открытии выставки «Четверо в центре» на Кузнецком Мосту – 20, на которой я выставил около тридцати работ, сын одной моей знакомой, адвокат по уголовным делам, случайно пришедший на вернисаж, подарил мне роскошный букет цветов, сказав при этом: «Общаясь с бандитами и убийцами, я уже стал думать, что другого, чистого и светлого мира уже нет. А он все-таки есть!» Наивно, но трогательно.
* * *
Мне не интересно детское творчество – за ним еще не стоит судьба художника.
* * *
1968 год. Я тогда молодой, начинающий художник, недалеко от своего дома на Шелепихе, увидел стоящего у мольберта человека. Решил подойти поговорить как художник с художником. Лица художника я не видел, его скрывал холст. Не успел я приблизиться и на несколько метров, как из-за холста выглянуло очень худое, серое и злое лицо в кепке. «Пошел на х…» – сказало лицо. Я повернулся и ушел, понимая, что помешал творческому процессу. Это была моя первая встреча с настоящим художником. Через много лет узнал, что звали его Анатолий Тюков и жил он где-то в моем районе. Так случилось, что после его смерти, желая помочь его старой матери, я купил прекрасный этюд зимней Москвы-реки со вмерзшими в лед баржами. А с самим Анатолием мы так и не познакомились.
* * *
Сразу после школы мальчишкой я пришел работать в отдел технической эстетики одного проектного института, где и познакомился с незаурядным человеком Борисом Петровичем Сафроновым. К тому времени я закончил художественную спецшколу, но это был первый художник, занимавшийся живописью, с которым меня близко свела жизнь, как оказалось, на долгие годы. Он жил в соседнем доме, в небольшой двухкомнатной квартирке, с женой и сыном, и я стал часто бывать там. Сам Б.П. обитал в восьмиметровой комнатушке, сплошь напиханной книгами, журналами и всякой всячиной – микроскопами, керамикой, морскими раковинами, различными химикалиями в баночках, был даже человеческий череп – как в келье алхимика. На кухне, на старом диване мы нередко засиживались допоздна, о чем-то спорили, читали самиздат или гуляли по Москве, показывая друг другу заветные места. Б.П. тогда сильно выпивал, и мы часто ходили от пивной до пивной, где тот чего-нибудь принимал, а я молодой, несведущий, слушал рассказы бородатого художника, прожившего больше меня, видевшего и знавшего больше меня. Иногда мы вместе пили портвейн на берегу Москвы-реки, там он почему-то имел особый вкус. Б.П., как тогда было принято в московском андеграунде, «баловался сюрчиком», но, бросив пить, от него отошел и стал писать натуралистические натюрморты в духе «бытовой» метафизики, вероятно, близкой ему. Тогда же он показал мне толстый альбом сюрреалистов, большую в те времена редкость в Москве. Я впервые увидел «Горящего жирафа» Сальватора Дали (там на переднем плане две женские монстроподобные фигуры, у одной из которых тело в выдвижных ящичках, а на горизонте – объятый пламенем жираф). Удар был такой силы, что, помнится, я не спал всю ночь, находясь под впечатлением от увиденного. Для меня открылось какое-то новое таинственное пространство, пугающее и манящее. Я никогда серьезно не увлекался сюрреализмом, хотя ценю Макса Эрнста за эзотерический контекст и «непопсовость», но всегда в своих работах пытаюсь передать ощущение «другого пространства», когда-то поразившего меня в «Горящем жирафе».
Читать дальше






![Семен Дьячков - Прогулка в Луну [Забытая фантастическая проза XIX века. Том III]](/books/390450/semen-dyachkov-progulka-v-lunu-zabytaya-fantastiches-thumb.webp)