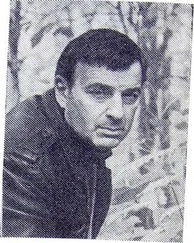Стёкла в окне тревожно дзынькнули, и стало слышно, как по деревенской улице громыхает большущая телега лесника.
«Чёй-то рано сегодня Алексей от барской усадьбы воротился, – как-то отстранённо пронеслось в голове Евдокии. Она подошла к столу, села на край лавки и, откинув с оглаженной доски льняное полотенце, прошлась ладонью по еще пока белой тёплой поверхности дерева… Посмотрела на ходики с кукушкой – Федин подарок. «Сегодня, после захода и начну. Пора уж».
И, уронив голову на доски – словно освободившись от какой-то внутренней тяжести – спокойно уснула…
…Вот она с Федей у барской конюшни. Снег скрипит под валенками хозяйского конюха, тот, явно красуясь, важно вышагивает вокруг расписных резных саней. А она – в этих самых санях сидит – как барыня какая! Как же! Сама сани расписывала-то!
И Федька – довольный! Сияет весь! Щёки красные с морозца – ах, какой он у неё красавец!..
Вот скрипучий голос повитухи – бабки Ульяны, и дух от зажженных в бане свечей, расплывающихся в огненно-радужные круги от навернувшихся от счастья слёз… Девочка! Девочку родила!
О, какой голосок! «Певуньей будет», – улыбается повитуха… Чувствуется – где-то там, за дверью, мается Фёдор, ждёт…
Вот бабка Ульяна отворяет низенькую дверь, входит Федя. Смущённо, как-то боком, берёт орущий свёрточек – и тот враз успокаивается. Муж! Любимый, родной человек!.. Подходит к ней, наклоняется, целует её в мокрые щёки.
И она, совсем шальная от счастья, хватает слабыми ещё руками его лицо, и прижимает к своей груди…
Вот Фёдор с котомкой у крыльца. Неподалёку деревенские мужики, наладившиеся к зиме на отхожий промысел, терпеливо ждут…
Барин завёл себе нового конюха, кого-то из немецкой стороны привёз. И Федя, чтоб были в семье какие-никакие гроши на пропитание, уж на вторую зиму в промысел уходит. Далеко, за Тверь, говаривал как-то. До самой до весны…
И вот, стучат уже колёса вагонов – она в первый раз провожала до станции, видела: паровоз огромадный, чёрный зверина, пыхтит весь, дымом исходит и паром, а сзади – как за клушей цыплятки – зелёные вагончики друг за дружкой… Колёса стучат – и увозят всех. И Федю. И всех-всех… И всё стучат и стучат…
Евдокия вздрогнула.
Стучали в её окно. Не заходили в избу – знали: богомазное чудо – святое дело. Нельзя беспокоить.
– Сейчас-сейчас. Кто там? Да вы заходите…
Она мельком бросила взгляд на ходики – на пять минуточек только и забылась. А кажется – полжизни прожила ещё раз…
Не успела к двери – та уже распахнулась, сгорбясь, влез в неё громоздкий, бородатый Алексей Игнатович. В обеих руках – как куль держит…
Нет, не куль это… Не куль!..
…Уже второй год, как война с германцем.
Уже второй год Евдокия пишет икону. Семейную икону. Против всех церковных правил. Против самой судьбы. Против Смерти.
Пишет по памяти. По снам, таким коротким, как вплеск капли в воду, как вспышка лучины перед угасанием.
Пишет то, чего не должно быть. Но то, что – будет. Непременно будет!.. Непременно…
Только бы – успеть… А ходики всё – тик-так, тик-так…
Намедни заходила Фрося, супружница Алексея Игнатовича. Посидела рядышком. Повздыхала. Потом вдруг уткнулась носом в плечо – и затряслась в беззвучном плаче.
А что я могу сделать. Ничего. По голове поглажу. Пошепчу успокоительно: «Ладно, ладно, всё хорошо будет… Всё хорошо…» А сама – хоть вой, хоть о стенку лбом! Нельзя… Глашенька моя за занавеской спит. Пусть спит. Всё лучше, нежели она цельный день сидит у печки, прислонилась к ней – и сидит, и смотрит с тоскливым ужасом на дверь…
После того, как её, мою деточку, кровиночку мою, барский конюх – немчура проклятая – снасильничал, бабушка Ульяна цельный месяц отхаживала, поила травками всяческими, да заговоры шептала. Осенью стравила она комочек кровавый – и вроде бы успокоилась. Только вот сидит теперь – всё боится, что тот вражина клятый в дверь сейчас войдёт.
Только не войдёт он уже. Никуда не войдёт. Завёл его в болото наговор Ульянин – и сгинул он там. Бабы сказывали – шёл он от конюшни до Настюхина болота сам-не-сам. Будто кто за руку тащил. Подошёл к самой трясине, шагнул в неё – и всё. Ульяна после того неделю окромя воды ничё в рот и не брала. Постилась да молилась…
…Ушла Фрося. Поплакалась, что уж полгода как письма от мужа нет – и ушла. А мне опять до утра лики выписывать – вспоминать…
Анатолий Иванович как-то в очередное мое посещение деревни – недели две прошло после того случая на колодце – показал эту икону…
Читать дальше