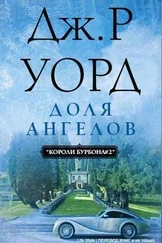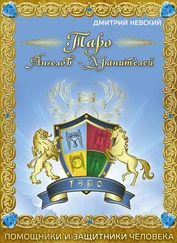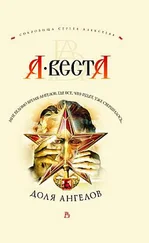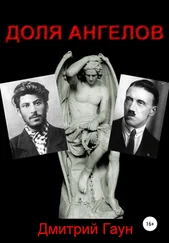«Все-таки странная она», – думал я, глядя себе под ноги. Вспоминая, как вчера Люба поймала этого киргиза – сама! Схватила и стащила с лошади за ногу, хотя он на год был ее старше. Сын степей верещал, что он все расскажет папе, что он больно ударился локтем, но Люба перехватила его за шиворот, потом как-то ловко скрутила ему руки за спиной и позвала нас. «Бейте, – сказала она. – Он вас тогда напугал, а теперь вы ему отомстите». Разжалованный наездник выглядел совсем не так, как вчера, когда, сидя в седле, правил трусцой лошадь прямо на нас. Мышиные глазки уже не сияли, а щечки ввалились, словно он вынул все свои зубы. От слабосильных шлепков Юрчика и Наташки он вяло ойкнул, а я… бить не стал. Мне было противно. Все противно: и вчерашняя история, и сегодняшнее ее продолжение, поэтому я просто захотел все прекратить. И ушел. Люба потом догнала меня и спокойно сказала: «Ну и дурак. Они только так и понимают…»
И я мысленно согласился с нею: наверное, да, наверное, дурак…
А еще через три дня – или ночи? – уже перед рассветом я ревел, не стесняясь, и вдавливал свое сопливое лицо ей в живот, и твердил, что не хочу уезжать. Она растерянно гладила меня по голове и говорила, что не надо так, что мы обязательно еще встретимся, конечно же, встретимся! И – может быть, я просто испугался грозы? Но я говорил, что нет, и она понимала, что нет, конечно же, нет, ведь она чувствовала, что я не трус и не боюсь ни этой грозы, ни хлещущего дождя, но… Как трудно ей было поверить, что это – не из-за грозы. Она вникала в то, что происходило, как в чудо, как в сложную формулу.
И мы больше никогда не встретились.
«+7 999…..
Да ты никагда и ни любил миня я всигда была для тебя толька любовницей!»
Сад радостей земных…
Много лет спустя, уже взрослым, я увидел эту картину и понял, что она – аллегория моего детства. И Наташкиного, и Юрчикова, поскольку их детства были вовлечены в мое, как пересекающиеся орбиты планет, как тяжесть и способность притягивать чуждые тела, взятые ненадолго взаймы. Как способность ненадолго входить в чужой мир и влиять на него своим присутствием. Сколько лет нам было, когда мы встретились? Не помню. Можно, конечно, высчитать, но зачем? Мне, наверное, было где-то семь… Меня выпустили в сад – хотя нет, конечно, нет, в саду этом я бывал и раньше, отец мне еще долго рассказывал с улыбкой, как я, трехлетний, в нем однажды заблудился, – но я говорю о вхождении в этот сад в ясном сознании, в памяти, способной хранить и нести с собой это чудо: девочку, которую подвели ко мне и сказали, что она – моя сестра, и мальчика, выбежавшего нам навстречу из угольного сарая. «Это твой брат», – сказали мне.
И мы бросились играть. В саду были веревочные качели, лежал свернутый черный шланг, из которого можно было брызгаться, у ворот, под абрикосовым деревом, жила собака Альфа, которая взбиралась на свою будку и объедала абрикосы с нижних веток, и через все великолепие влажной жирной земли пролегал арык, на дне которого, накрытые прозрачной водой, торчком стояли и колыхались нематоморфы. А еще был амбар с сундуками, полными пшеницы и кукурузы, сарай с пузатыми банками и столярными инструментами деда, свинарник и дом, на чердак которого вела ржавая тонкая лестница, и трогать которую нам было строжайше запрещено. «А то цыганам скажу, они вас заберут», – так сказала бабушка.
Мир этого открывался нам не сразу. Мы узнавали его частями, весь день разбирали его и брали с собой, унося в свои сны. Именно тогда я впервые почувствовал, как подолгу не могу уснуть на жестких простынях, пахнущих пылью, как звучат, поют в беспокойном сознании слова, пытаясь связаться, сцепиться друг с другом во что-то бесконечно прекрасное… А утром я прокрадывался по уже обжигающим доскам веранды на самый порог и смотрел в пустой без наших игр и криков сад и думал о том, что он глубокий, как омут. Может быть, там, со дна его, кто-то невидимый так же легко смотрел на меня.
– О, какие тебе мамка трусы купила! Прямо настоящие девчачьи! – шлепала меня по спине проходящая мимо с чашкой комбикорма тетя Галя.
Я смущенно улыбался, и мне было приятно и радостно от того, что, пусть чья-то чужая (но ведь не совсем же!), мама может со мной так разговаривать. Как приятель. От радости все во мне напрягалось, и, радостно напряженный, возбужденный, я стоял и словно кожей улавливал каждый миг и жест пробуждающегося дома, оживающего мира. Запахи отделялись от красок, слова от дней. Я чувствовал, как остро пахнет от ведра, служившего нам всем ночным горшком, как упирается в мизинец сучок доски, как звенит цепью Альфа. Как проходят дни лета.
Читать дальше