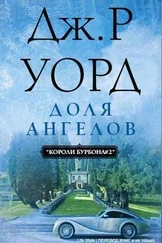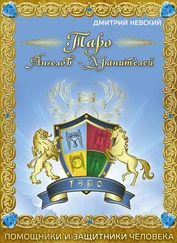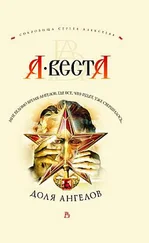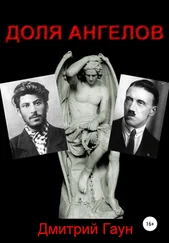– Да. Понятия «женщина» и «женское начало» означают разное. Девочка становится женщиной, теряя в себе ощущение чуда. Просто новый виток ее персональной истории в прежнем естестве, с полностью обновленным сознанием. Обнуленным.
– Скажите «спасибо» мужчинам.
– Да не за что. Пардон. Знаешь, когда я, спустя двадцать лет, услышал Наташу по телефону, я понял, что еще минута разговора – и я потеряю огромную часть своего детства. Положил трубку. Разговор получился скомканным…
Я стоял, согнувшись над столом и над телефоном, лежащим на нем, и все пытался сглотнуть пересохшим горлом. И была во мне горечь. Та самая горечь, что переполняла меня в детстве, когда я чувствовал свое бессилие перед порядком вещей, движением жизни. Я стоял и вспоминал, как любили мы запускать водолазов, сделанных из желудей. В ту самую бочку. Самые лучшие водолазы получались из желудей еще чуть-чуть зеленоватых, у которых шляпки держатся прочно. Мы плескались в этой воде, пока кисти не краснели и их не сводило, как куриные лапы, в горсть, которую уже невозможно было разжать. Имена мы давали этим водолазам…ох, господи, прости нас грешных.
– Ну уж, грешников нашел.
– Ей тогда было семь, а мне девять. Удивительная пора жизни. Когда вдруг понимаешь, что большая часть мира существует все же вовне, а твое тело – лишь часть его. Когда пробуждается истинное любопытство, готовое рискнуть благосклонностью взрослых и собственным покоем. Когда краски начинают бить по глазам, а тело реагирует на открытия непредсказуемо и агрессивно, как на боль. Когда, уединенный в саду, ты замираешь, понимая, что тебя снова и снова, неудержимо, тянет касаться нежного, открытого, и это еще так больно, так… так, что просто завораживает, и хочется чувствовать это новое ощущение опять, медленно, по складам, по клеточкам. Чтобы убедиться, что теперь и это – твое, и ты полностью владеешь им и можешь вызвать его к жизни, когда захочешь. Когда, не зная как это назвать, ты даешь имена спонтанно, ориентируясь на форму и цвет. Не зная назначения, придумываешь им свои версии и сам подбираешь им места в настоящей и будущей жизни. Иррациональные, странные, страшные, чудовищные, как, например, мысль об операции.
Еще я научил тогда брата и сестру залихватской песне «Граждане, воздушная тревога…», и мы частенько орали ее на весь сад под насмешливыми взглядами деда, под укоризненные шепоты бабушки…
Про операцию я узнал год спустя, когда Люба, по страшному секрету, взяв с меня клятву о том, что я никому ничего не расскажу, показала мне шрам. Мы тогда сторожили с ней кукурузу, в Николаевке. Почему она выбрала именно меня, я не знаю. Хотя… может быть, дело в возрасте? Ей было уже почти четырнадцать, а мне – десять. Юрчику же с Наташкой – по восемь. И хотя вся наша ночная работа была скорее развлечением, но брать младших с собой… А вдруг они просто испугаются и заревут, затребуют домой? Наш чулан стоял на самой середине поля, и до бабы-Валиного дома было где-то с километр по этим джунглям, среди вымахавших уже под два метра стеблей, и ночью, когда луна плыла над самыми нашими головами, казалось, что сторожка наша стоит на самом краю земли, и дальше нет ничего. Только тьма, только тишина. И мир, теряя там самоё себя, обретал в материи новое: эту тишину и эту тьму, становившиеся веществом ночи. Ну и как бы мы их вели тогда домой? Да там заблудиться-то – раз плюнуть. Даже для такой взрослой девушки, как Люба.
В общем, на вторую ночь, уже усевшись на досках, покрытых чем-то вроде старых фуфаек (при свете керосинки, стоящей, от греха подальше, в противоположном углу), мы заговорили о самых жутких и невероятных травмах в своей жизни. Я показал ей шрам на левой руке – от гвоздя в заборе, она – синяк на плече, который посадила, зацепившись за улей в сумерках. Этот жалкий синяк я с усмешечкой крыл вырванным весной коренным зубом. Тогда она, помолчав, с улыбкой спросила меня: а что я знаю об операции ? Я поежился, вспомнив виденные в процедурном кабинете поликлиники блестящие жуткие лопаточки, клещи и бутафорских размеров шприцы, и, вздохнув, сказал, что ничего. Ничего, слава богу, не знаю. Я не стал признаваться ей в своем страхе перед текущей кровью, ранами, её источающими, и о тех глубинах , в этих кровоточащих ранах, которые ведут в самое сокровенное, туда, где обитает душа. Люба отвернулась, словно потеряв интерес к разговору, и стала смотреть в сторону, в один из темных углов, где шевелились наши тени и где особенно сильно пахло какой-то кислятиной, застоявшимся куревом и сухой травой. И так же не поворачивая головы она слезла с лавки, повернулась – только теперь – ко мне и сказала: смотри. Ее рубашка была снизу без одной пуговицы и, освобожденная из трико, легко разошлась широко в стороны, а пальцы с короткими грязными ногтями, как крючки, зацепились за резинку с правой стороны и быстро оттянули ее вниз. «Аппендицит! – сказала она торжествующе. – В прошлом году вырезали». От слова «вырезали» у меня, кажется, ослабели не только колени, но и позвоночник. Я бессильно провис и склонился к самому шраму, едва ли не касаясь его носом. Он был багровый и узловатый, как кусок веревки, с белесыми короткими прожилками. Пересекая живот по правому краю наискось, нижним концом он доставал до редких рыжеватых волос, вившихся из-под резинки. Машинально я отметил, как пергаментная смуглая кожа живота внизу становится рыхлой… И отступил. Пересохшим горлом говорить было трудно, и я выдавил: «Ничего себе… Больно было?». «Не-а», – залихватски воскликнула она и ослабила крючки. Резинка щелкнула, возвращаясь на место, и полы рубашки сошлись вместе. «Это ж под наркозом делали. Я заснула – сделали, а проснулась – уже все готово». Я молчал, пытаясь представить себе, как руками проникают туда – в трепещущее, красное. То, что «оно» трепещущее, я знал, поскольку не раз видел, как в деревнях у матери и у отца разделывают кур, потрошат рыб, запуская пальцы во вздрагивающие тела. Но с теми-то было проще – у них не было души, а вот человек… И еще эти… волосы… То, что они должны быть, я теоретически знал, но вот увидеть это… Какие-то плоские, жесткие…
Читать дальше