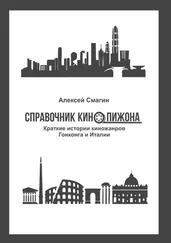Алексей Афонин
Очень страшное кино

Алексей Афонин, поэт. Родился в 1990 г. в Петербурге.
Участник Шестого майского фестиваля новых поэтов (2007), XVI Фестиваля свободного стиха (2009), II Фестиваля университетской поэзии (2009). Публиковался на сайте «Полутона», в интернет-журналах TextOnly и «АльтерНация», сборнике университетской поэзии «День открытых окон – 3», журнале «Воздух».
Живет в Петербурге.
Не знаю, существует ли поэзия, равнодушная к теме смерти: в основном она играет именно с этой сущностью, и насколько тонка эта игра, настолько жизненна та или иная поэзия. На каком-то этапе просветления игры можно избежать (выйти из игры) и достичь ясности (удивительно редкое качество), но это уже для – религии или философии. Поэзия лишь намекает на близкое соседство с небытием, на постоянное его присутствие за плечом, в глубине темного подъезда, под кроватью или под сердцем, но все-таки не переступает через некую светскую грань, находя спасение в интонации, в образности, в музыке. «Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры…» Кто этот «начинатель», кстати? Разве сочинитель? Разве только сочинитель?
Книга Алексея Афонина, которую вы держите сейчас в руках, проникнута этим «темным ужасом», подернута его холодком, щемящим, настоящим. Этот голос, как бы нашептывающий полудетские мантры, свидетельства о невидимом и предметном мирах, пытается заговорить что-то страшное и неизбежное: может быть, если вербализовать очертания ужаса, он исчезнет. «Произнесенное молчание: есть, без я.» В прологе к «Самому страшному кино» автор пытается выделить генезис этого экзистенциального страха, несколько раз обозначая его в нашем недавнем прошлом: «осокой блокадного злого болота наследия чёрных подъездов, которые помнят…», «подстаканники древних известий…», «извёсточным крошевом вальса, который когда-то…», «чёрно-белая хроника: нескончаемый город…», «дождь стеливший… в память из библиотек…», «ты картография прошедших…», «а тебе здесь жить… играя со страшным, с черным…» Не думаю, что главную тяжесть несет в себе именно «картография прошедших, их пятна весёлые трупные пятна жирафьи, окопные пятна». Чужая жизнь может довлеть, но тень реального каземата все равно только в тебе самом, так что «страшное и черное» – из другого, более сокровенного ряда. О нем не очень принято (и трудно) говорить – отсюда множество внешних отсылок, да и в самом названии книги слышна простодушная ирония – «самое страшное кино» рано или поздно кончается: отмелькают кадры, отпиликает фортепьянка… Выйдешь на свет и вот уже:
«…ничуть не жалея о том,
убежавший и спасшийся атом,
по аллее гуляет пустой
и честит непохожего братом».
Афонин внимателен к непохожему и чужому, такое происходит обычно, когда ты более-менее знаком с самим собой. Он неравнодушен к деталям, их размещению во времени и пространстве, присматривается, ощупывает, словно бы проверяет, кто еще жив, а кто уже нет. И догадывается, что иногда это проверить невозможно.
«Спаниель кудлатый, ещё завой.
Ну, идиот, ну, чуть-чуть недоверил в чудо..
Я тебя напишу, напишу и забуду.
…Просто слишком страшно, что ты живой».
Определение жизни – скользкая штука, органические и неорганические ее формы – лишь химия; первобытный анимизм, одухотворяющий и дерево, и камень, никуда не исчез, если мы воспринимаем жизнь, как чудо. И к различным проявлениям этого чуда автор и обращается, обнаруживая его в криках чаек на свалках, дрожащем мареве Исаакиевского собора, в детях и зверях, выходящих из зеркал, огромных как ветер, в иномирном одеяле Старшей Эдды, фиолетовых маяках пространства… «Чтоб Вечность пристально погладила тебя». И все равно в конце концов все это цветастое и цветущее многообразие сворачивается, сжимается в точку.
«вся
эта карусель, как зонт у фокусника, вращаясь, постепенно
иссякает, уходит;
и остаются
нам – только голуби, воркующие в винограде.
Обрывки солнца, переливающиеся в воде».
Я помню свой детский сон с толстыми спиралями галактик в клубах дыма, кусках мяса и пыльных тряпок, что-то огромное, безмолвное, величественное, и потом сворачивающееся до уровня какой-то ржавой писчебумажной скрепки. Это был страшный сон, я это помню, хотя не видел его уже лет сорок. Страшный – именно из-за этой скрепки. Я уверен, что в личной биографии каждого подобные сны – общее место: воспоминание о до-бытии, о предыдущем воплощении. Более подробные иллюстрации можно найти в «Бардо Тхёдол», важнее – истинность, даже физиологичность ощущения.
Читать дальше






![Алексей Афонин - Макроскопическая диагностика острых отравлений [litres]](/books/398169/aleksej-afonin-makroskopicheskaya-diagnostika-ostryh-thumb.webp)
![Алексей Мальцев - Страшно только в первый раз [litres]](/books/409598/aleksej-malcev-strashno-tolko-v-pervyj-raz-litre-thumb.webp)