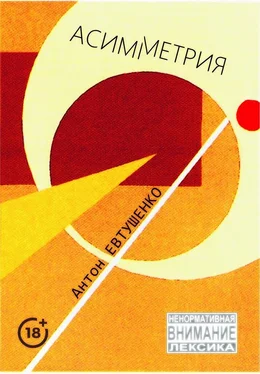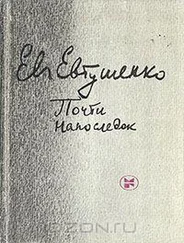В Великой банановой империи инвазивный метод убеждения, именуемый политкорректностью, родил термин ghost writer – гострайтер, призрак пера, который русскому народу, генетически чуждому ко всякой там корректности, не очень ясен, оттого-то, наверно, на стыке вульгарной этимологии и вербальной нечистоплотности у нас прижилось недалеко ушедшее от «негра» слово «книггер». Отношение белого хозяина к книггеру напоминает чем-то отношение зрелого мужчины к бляди, где роль законной супруги исполняет Муза – ну, помните, та самая молодая женщина из древней Греции, одеяние которой (цитирую по памяти) из самого легкого шелка, просторное, белоснежное, как тучи ясного дня; её нежные волосы, слегка закрученные, спадают на грудь, а в волосах золотой гребень с драгоценными изумрудами, и в руках её маленький хрустальный флакон, в котором хранит она всю мудрость озарения.
Да-да, та самая! Угодники Музы примерно знают, кто из товарищей по цеху налево похаживает. Казалось бы, тактичней промолчать, ан нет: малодушная дипломатия должна уступить дорогу животной агрессии. «Сор из избы» время от времени всплывает в виде жареных сенсаций в СМИ с разоблачениями известных литераторов. Как знать, может каждый человек творчества мечтает о своей femme fatale, а получает вместо этого продукт фантазии древних греков или строчкогона с пушком над верхней губой. И вот все эти, с позволения, сочинители чудесно варятся в одном котле в бульоне из метафор и аллегорий, а там всё очень жутко, потому что пенка на поверхности – это свернувшийся белок потаённых смыслов, который следует снимать хотя бы из эстетических соображений.
Разумеется, пока я продирался по московским пробкам на Алинином небесно-голубом «ситроене», у меня было достаточно времени, чтобы состряпать и запечь наизощрённейший план мести. Но вся безысходность ситуации заключалась в другом: я знал, что очевидно никогда не претворю его в жизнь. Любые разоблачения писателей в эксплуатации книггеров происходили без помощи последних, потому как надо совсем сильно не любить себя и не видеть в профессии писателя, чтобы искать casus belli на своё филейное место пониже спины. Мне всегда казалось, что кляузниками, стукачами и прочими осведомителями движут две особо разрушительные силы, а именно зависть и ненависть, а раболепие, пресмыкательство и подобострастие бесконечно далеки от этих мощнейших стихий.
Ещё на Садовом кольце, где машины стояли в два ряда, я начал паниковать, предвкушая проблемы с парковкой на Новом Арбате, на котором всегда всё непросто: парковаться на улице нельзя, места на тротуарах забиты. Я вильнул на Поварскую, там было посвободнее. Отсюда до Дома книги можно дойти пешком минут за пятнадцать, если нырнуть в Борисоглебский и срезать наискосок. Я глянул на запястье и вздрогнул: дорога отняла почти полтора часа жизни. Чтобы как-то компенсировать кризис времени, решил попытать счастья с парковкой в Борисоглебском и, сильно довольный собой, таки смог найти местечко. По дороге к книжному, в том же переулке я обнаружил ещё много свободных мест, но решил сильно не расстраиваться. Поводов для этого хватало.
Когда я только поступил в Литературный институт, Дом книги на Арбате уверенно лидировал в верхней строчке хит-парада любимых московских мест. Отношения с фаворитом складывались странные. Вначале я был кем-то вроде узника совести, только наоборот, то есть бродить часами вдоль книжных полок вместо того, чтобы торчать на лекциях, было не так совестно. Затем занятия разбухли и выкустились, они стали скучнее, а я циничнее, и муки совести, как ненужные придатки отпали сами собой. Теперь я захаживал в магазин больше для знакомства не с книгами, а с молодыми женщинами, потому брожению вдоль полок предпочитал томное стреляние глазами. Никаких сверхособенностей пикапера не требовалось, чтобы пеленговать псевдоинтеллектуальность и псевдоглубину таких псевдоучилок в очках-велосипедах без диоптрий, заламывающих пальчиком место закладки классика в мягкой обложке. Все эти ботинки-криперы, рубашки на пуговицах, юбки макси и кружева hand made служили чем-то вроде ярлычков-меток, на которые срабатывала моя внутренняя рамка-антенна. Разговор с дамским контингентом завязывался легко и буднично: обычно я просил посоветовать какую-нибудь книгу, просто хорошего автора и часто за между прочим добавлял, что и сам-то без пяти минут поэт. Это всегда действовало, как детонатор на тротиловую шашку, то есть бум – и всё, она твоя! Не верьте, если говорят, что девочкам нравятся плохие мальчики: всё как раз наоборот. От детства ничего не сохранилось – ни первых поэтических опытов, ни даже фотографий. Зато студенчество пестрело многочисленными лирическими посвящениями на казённой бумаге и я, всегда рассчитывая отделаться интрижкой, умудрялся крепко приложиться головой к абстрактной планке «амурные дела». Посвящения «единственной» писал тут же на ходу в каком-нибудь кафе, куда мы плавно и органично перемещались. Всегда были долгие беседы за чашкой кофе/чая и на прощание, как следствие, ряд цифр на салфетке. Правда, иногда события другого дня показывали, что номер телефона надиктован левый. На том конце трубки меня не узнавали и уверяли, что ошиблись номером. Да, это можно было списать на мою или её рассеянность, но тешить себя подобной наивной мыслью не приходилось. Один приятель, предпочитающий книжным магазинам продовольственные (он заводил знакомства в очереди), очень метко подмечал: «послала не на три буквы, а на десять цифр».
Читать дальше