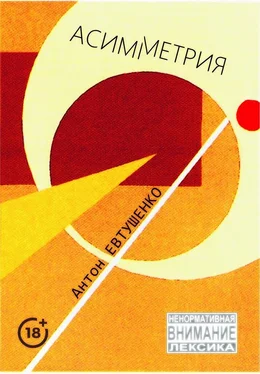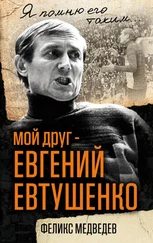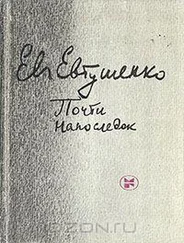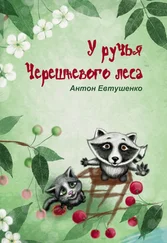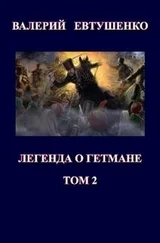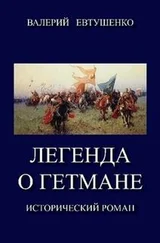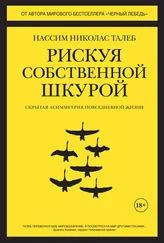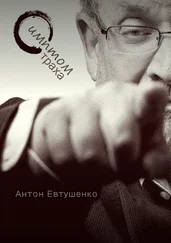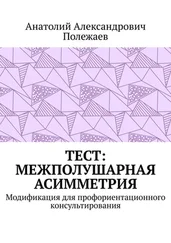Я на вашем месте бы расстроился. Собственно я так и сделал. Вспомнил участие и победу в поэтической олимпиаде и приглашение в Москву, где румяные и толстощёкие доценты, подобно христовым невестам, устроили смотрины хозяйства жениха – вылавливание божьих искр из уцелевшей после жёсткого отсева абитуры. Один особо пожилой доцент с седыми баками послушал «Сокровище Пижанки» и без дальних разговоров наградил меня не то почётным, не то обидным прозвищем. Он так и сказал: «Местечковый миннезингер – вот ты кто, приятель!» Глянул своими бездонными, бесцветными глазами и добавил: «По этим коридорам ходил Рубцов и Приставкин, Гамзатов и Рождественский. И ты далеко пойдёшь. Потому что имеешь вкус». Из чего был сделан вывод, что педагог всё же не дразнился.
Но вкус из-за столичных метроманов быстро испортился. Испортился сам воздух в текстах, его просто не стало. Я получал право быть поэтом, я выбирал свободу, побуждающей по Генису и Вайлю, к «квантам истины». Но не случилось сиять, я как-то незаметно лишился стремления к духовной революции. Аккурат к моменту вручения диплома стихосложение вместе с блокнотом в сером коленкоре потерлись, подвинулись и отошли на задний план, уступив место не очень поэтичной ткани жизни, грубоватой и безвкусной выкройке её фасона. И первое, чему научила житейская проза, была вымученная мысль: иметь право и быть поэтом всё же не одно и то же. Доценты это знали, но до поры до времени молчали.
Ведь вопрос «что пишет поэт?» логически подразумевает ответ – стихи. Мне довольно трудно объяснить, как соотносятся между собой проза и поэзия, но у меня складывается ощущение, что между ними есть граница, несмотря на то, что писатель и поэт одним миром мазаны, их смысл жизни по сути одинаковой природы – писать. Линия раздела между стихами и романами всё же есть в том, что первые пишутся спонтанно, инстинктивно, даже где-то неожиданно, а вторые, простите, требуют детального плана и времени, потому что написать неожиданно роман – это всё-таки, скорее исключение, чем правило. Муркок как-то написал роман за два дня, а Бёрджесс за пару недель. Правда, у автора «Заводного апельсина» был особый случай: ему поставили диагноз «рак» и заявили, что жить осталось не больше тех самых пресловутых двух недель. Хотя это всего лишь подтверждает правило эффективного тайм-менеджмента: не забывайте расставлять приоритеты. Именно эти слова я услышал на прощание перед тем, как за мною захлопнули дверь.
Да, наверно, я слишком лично воспринял совет, потому принялся писать много и взахлёб. Через три месяца издатель меня уже не прогоняет: перед собой, как знамя партии, я гордо держу увесистую рукопись. Издатель вынужден признать: написано недурно, «рыночно», но раскручивать моё имя у него нет ни малейшего желания. Именно эти слова он произносит, когда предлагает издать роман под другой фамилией, поясняя, что условный Семизалупкин на обложке моей (моей же!) книги – раскрученный писательский бренд. И вот фактически мне выдают лицензию на творческую эвтаназию, я сам не замечаю, как скатываюсь по наклонной: от поэта к романисту, от романиста к беллетристу и, наконец, однажды, приходит понимание того, что я уже ни разу не художник, а обычная литературная шлюха, у которой тысяча оправданий и ни одного права на собственные амбиции. Впрочем, одно право всё же есть: это профессиональное достоинство. На вопрос «Что ты умеешь?» можно отвечать: умею всё, только не целую в губы.
Вот с этого момента, пожалуй, стоит поподробнее – и начать (продолжить?) следовало бы, вернувшись к фразе «…я – писатель». Да, давайте называть вещи своими именами. Даже автор одной книги, получив известность только по одному произведению, может называться писателем. Харпер Ли – писатель, Маргарет Митчелл – вне всяких сомнений, Александр Грибоедов – конечно, и это подтвердит любой школьник. Называть себя писателем я могу только в компании людей, с которыми знаком от силы полчаса. Потому что эта категория «шапочных знакомых» ещё не знает меня достаточно, чтобы спросить в лоб фамилию и ближайший книжный, где можно что-то почитать из моего.
«Что-то из моего» – эта фраза меня, честно, бесит. Что это вообще значит: что-то из моего? Дюма-отец, на счету которого более трёхсот романов, на такой вопрос, конечно, нашёлся что ответить, хотя мало кто знает, что француз-писака по-настоящему «своего» писал не очень-то и много. В литературной Франции уже сто с лишним лет назад гуляло выражение negres littéraires. Наверняка, кто-то вот так же, как и я, фиксировал в памяти новомодное словечко, чтобы после втихаря разузнать его определение, а разузнав, немало удивлялся: оказывается, даже в издательском мире есть трудолюбивые рабы, натирающие мозоли на литературных плантациях белых господинов. Так вот, Адам Варашев – не писатель, потому фраза «я – писатель» с моей стороны не больше, чем бравада. Если бы у меня были визитки, которыми обмениваются на деловых встречах, на них следовало написать род деятельности – «литературный негр».
Читать дальше