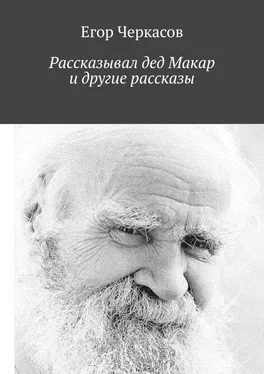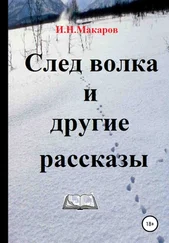Уже взрослый Егор вспоминает о честных мыслях деда, пытается найти причину его одиночества и понять, почему дедушкины слова напоминают о себе, в чем их сила:
«Дед Макар мыслил монументально, иногда он „заходился“, или речь его заплеталась от изрядно выпитого. Но одно могу заявить точно: я не помню, чтобы изреченные мысли дедушки, хотя бы одна, потом не вернулась ко мне и не напомнила о себе. Мыслил дедушка честно. Он имел на все свое мнение, такое непохожее на мнение сплоченного в своей безликости большинства, и поэтому всем был он чужой, а значит – лишний. Лишний – для этой жизни, в которой он не пригодился своей честностью и умом ни самому себе, ни обществу. Лишний, потому что богатый опыт его жизни был выводом только для него самого. Он был отчаянно одинок. И я, такой маленький, тогда почувствовал своим сердцем его взрослую боль. Какая-то внутренняя кассета во мне тогда записывала цепко все его „философии“, словесные выбросы, для меня, сегодняшнего. Тогда я не вмещал его мудростей, а теперь они становятся нужнее и понятнее мне. <���…> Что-то теплое исходило от деда, пусть и мешался у него запах махорки и „Рябинки“, все равно никто из взрослых, кроме деда Макара, с нами так охотно не играл и не разговаривал во всей деревне».
Вот как «одинаково» реагируют дед и Егор на хозяина джипа, «размером с трехкомнатную квартиру»:
«…Я сильный был, когда любил и когда немца ненавидел. И это – по-честному. А теперь выходит, я им (он кивнул на джип) победу добыл? Он мне теперь на праздник раз в год стакан наливает. Ремонт обещает. Он – хозяин. Вот те – на… Думаешь, он сильный? Он жадный. Душой слепой. У него душа, как дичок. Яблочко незрелое. А кого дичками-то кормят?»
Я громко ответил за всех: «Свиней».
– «То-та! Егорка, свиней!» И вдруг как-то пронзительно посмотрел мне в глаза. Как будто в самую душу до дна взглянул, увидев во мне всю мою суть, а также изо всех сил скрываемую от людей застенчивость и робость».
Вот как рассуждает дед о семье и силе.
«Как бы вы семью сейчас не отрицали, а ничего кроме семьи не придумаете – в ней тоже есть большая сила, уж поверьте мне. Я, когда семью свою любил, я всех сильнее был. Я – мужем, отцом был! Это большая ответственность. А на заводе как работал! Понимал, что стране, как ни крути, оборонка нужна. Я готов был терпеть во всем. Мне важней всего нужна была сильная Родина. А я был ее сыном. И на душе у меня был праздник. Семья была. Завод кормил. Квартиру на заводе дали. Хрен ли не жить, пацаны?»
Егор свидетельствует, что пацаны невольно соглашались с дедом – им нечего было противопоставить его Правде.
А вот мысли деда о кайфе:
«Как сейчас нынешние живут? Хочется спросить их, нынешних: Что вы хотите? Куды идете? Зачем? Любят они говорить, что по этому… „по кайфу“ живут. Это же тупик. Ничего вы не получите для души. Это вас в омут тянет. Потому что человеку „в кайфе“ всегда надо набедокурить чего лишнего. Не создать, а набедокурить. Над ним контроля нет, а сам он не может. Человек сам себя в свободе своей контролировать не может. Он в кайфе контроль над собой теряет, даже облик свой, на пес знает какой, меняет. Осмотрится такой по сторонам, и где ему кнута нет, да срок не светит – там нагадит всегда. Вот жалко, что на них кнута нет, а то был бы порядок. Кнут всегда нужен. Человек в кайфе разлагается. У него свободы много, ответственности – никакой. А что вы думаете, сильные теперь – молодые? В образе жизни своем? Сейчас приди фашист – шиш с маслом от вас».
Вот как реагировали на эти слова Егор и его друзья:
«Дед Макар дымил самокруткой, и когда дым рассеивался, то мы видели его страдающие глаза. Нам даже спорить не хотелось. Он говорил все правильно, даже для нас, пацанов. Мы не спорили».
Вот что дед Макар говорит о вере и Боге:
«Верю – значит, предан Богу. Верю в Него, как в правду, за которую готов непременно ответить и постоять. Ни во что человек так свято не верит, как в Бога и в правду. Это – одно и то же. Правда – от Бога. Люди верят в жизнь на Марсе, но им плевать, если завтра скажут, что жизни на нем нет, или что она закончилась. А за БОГА люди на костре горят. Я не стоял никогда за Христа и в костре не горел. Я даже молюсь не так, как другие. Я всегда Бога, как родного, рядом чувствовал, когда в войну в окопе ноги отмораживал, или, когда между жизнью и смертью был. Я Бога только благодарил. Потому что выжил. Но чего я не хотел всегда делать – так это просить или выпрашивать у Него чего-нибудь. Благодарить – пожалуйста. Просить – нет. Я же мужик всё-таки! Я и так прожить под Богом смогу. И прожил. Буду честен: лучше уж так, как я, – не клянчить, жить по совести, на небо „Благодарю“ сказать, чем выцыганивать себе того, чего у другого есть, а у тебя нет. Или верить, что если поставить свечку пожирнее, то и просить понаглее будет можно. И они меня будут учить смирению? И они мне будут говорить, что я гордый? Что наглый? А они? Не наглые, все просят и просят у Бога, а не пытаются сами что-то в этой жизни сделать? <���…> Вышла бабка в прошлый раз из храма да как поехала матом лаять на свою собаку, за то, что та ей под ноги суется-радуется! Я сижу и думаю: как же она этот театр смирения два часа выдержала и ни разу на священника не наорала? И когда она честнее была – в храме или с собакой? <���…> Бабке Агафье, ей что в партию, что в храм со всеми. Невелика ее вера. Не велика, что свою праведность и веру она исчисляет походами в храм, числом свечек, числом ударов лбом об пол. Это не вера – это обряд. Обряды не делают веру сильней. <���…> Иногда люблю я „перемолившихся“ позлить тем, что рассказываю им о том, как напьюсь, и ко мне иногда ангелы прилетают. Мы с ними вместе и плачем и смеемся, хотя больше плачем: над моей жизнью больше плакать хочется, чем смеяться. Я так всех любить начинаю с ними, с ангелами, всех обнять хочу, – так на меня их визит действует. А протрезвею – вновь всех ненавижу и готов всем в лица плюнуть лживые и злые. Вот такую я историю православным рассказываю. Те меня, как еретика, поносить начинают, говорят, что нет столько молитв, чтобы меня отмолить. Видите ли, такого пьяницу, да ангелы посещают! <���…> Смирение… это не когда платочек носишь сорок дней, да едой скудной себя моришь. Это когда сорок дней к тебе твоя супруга, во сне или наяву приходит, и ты силишься, чтобы с ума не сойти! Смирение – это когда ты на небо материшься, но не кончаешь себя, а дальше живешь и живешь! А не знаешь, зачем уж живешь. Так что от Бога то я и не уходил далеко: страдал, как Он велел, смирялся, жил по совести. Добро делал, как мог, и не делал зла великого»
Читать дальше