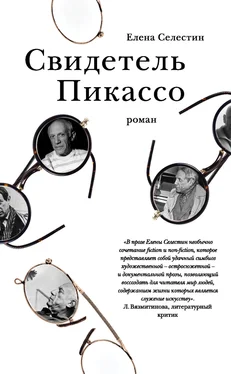На конверте Пабло коряво нацарапал их гватемальский адрес, он был грубо перечеркнут, и рядом рукой консьержа вписан адрес дома отца Инес в Барселоне. Перекладывая листки на поверхности кровати, глядя на них сверху, как на орнамент, кое-где украшенный завитками, похожими на тугой локон цыганки, Саб снова пугал себя, представляя, как некий злодей по ту или по эту сторону океана соблазнился и завладел письмом.
Больше всего было оранжевых букв, некоторые строки были прописаны фиолетовыми чернилами. Много длинных тире, на полстроки. Не было заглавных букв, но в избытке – восклицательных знаков и росчерков. Подчеркивания в основном были густо-зелеными, кое-где бумага оказалась порванной, будто ребенок нажимал на карандаш со всей силы.
Когда наконец перед глазами стали складываться фразы, они оказались доверчивыми и беззащитными, и Саб неожиданно для себя рассмеялся. Не собираясь принимать на свой счет ласковые обращения, на которые Пабло не поскупился, Саб их торопливо проглотил, но потом несколько раз перечитал, почувствовав лекарственную силу дружеского слова. Последующие страницы были полны жалоб, рассуждений об одиночестве и полной неспособности работать. Пабло с отвращением писал о жене, грубо обзывал ее по-каталонски. Саб усмехнулся: ну кто из парижского окружения Пикассо может понять словарь их юности?
Очевидно, Пабло сочинял послание несколько дней, а может, и недель; на одной странице он издевался над «этой женщиной», на другой грустил как оставленный друзьями подросток, вспоминал: « помнишь ли Саб как мы тогда в «Четырех собаках » и « ты ведь в том году был Париже в последний раз ». И еще: «когда попадаешь в жуткое вонючее рыхлое дерьмо некому бросить мяч вспоминаешь о подлинных друзьях они есть на свете – вокруг меня давно уже нет таких людей умных чувствительных к тому же клянусь отдал бы многое чтобы снова обнять тебя стало бы легче в моем отчаянии твой самый преданный друг и слуга Пикассо».
Письмо в основном было написано на каталонском и испанском, но были и фразы по-французски. На всех языках в словах было много ошибок; Сабартес еще острее чувствовал нежность из-за этих детских ошибок. Тридцать лет назад они часто шутили над Пабло из-за его безграмотности, он всегда отвечал: «Мне плевать на ваши правила, пишу, как мне удобно». Пабло говорил не «плевать»… ну конечно, ему было насрать на грамматику, как и на многое из того, что держит других людей в рамках страха и порядка. Но у Пабло были собственные страхи, и он изобрел свои ограничения, некоторые из них проявились в письме.
Сабартес решил дойти до столовой, поискать бутылку вина, открытую накануне за ужином. Еще не достигнув конца коридора, услышал крики Сальватора, переходящие в хрип. «Господи, как он разволновался из-за меня», – ошпаренный чувством вины, Саб бросился на террасу, где сын извивался на лежанке, царапая ногтями голый живот. Сабартес попытался обнять сына, но мешал листок письма в руке, он отстранился.
– Что ты тут встал? – жена явилась с кухни со стаканом воды.
– Знаешь… это очень хорошее письмо. Необычное. Хочешь вечером, когда уложим малыша, почитаем вместе? – предложил Саб заискивающе, протягивая ей листок. – Выпьем чего-нибудь, хотя бы того праздничного вина, посидим в саду, как мы раньше любили, помнишь?
Ему вдруг представилось, что благодаря посланию из Парижа их жизнь с Инес способна измениться.
– Па-пааааа, не п-ееей гадкую воду! – пронзительно заорал сын.
– Что ты, что ты, я не пью вино, не волнуйся, – снова шагнул к малышу Сабартес. – Или мало, совсем мало.
– Не хочу мало! Не трогай меня! – верещал сын.
– Ты, что ли, спятил от радости, что знаменитый дружок вдруг вспомнил о тебе спустя тридцать лет?! И что же ему понадобилось? – Инес больно ткнула Сабартеса острым кулаком в плечо. – Малыш и так настрадался у врача, отойди!
– Успокойся, малыш, – Сабартес отвел руки за спину, словно кланяясь. – Папа очень тебя любит и не будет пить плохую воду.
– Я люблю папу, – захныкал сын, пуская слюни. – Люблю-люблю.
– Тоже очень люблю тебя, малыш, – Саб потянулся к жене, ему удалось чмокнуть ее в шею.
Ночью Сабартес долго вникал в текст, написанный оранжевым карандашом, некоторые строки были подчеркнуты несколько раз голубым, другие зеленым.
…никакой подмены и протянутых рук и что еще говорить в этот ясный торжественный миг и немного комичный когда стол поднимается на дыбы и демонстрирует поверженному врагу свою исколотую грудь и так смешно изумлять какое-нибудь пойло своей чистокровной кровью хлеба и голодной морковки и оставаться спокойным перед ножами которые разбегаются и бросают его даже не подумав обернуться в страстных луковых слезах и не отдают себе отчета ни в мольбах ни в просьбах целой толпы доводов хоть разбейте носы если капелька солнца слепит но оно уже так устало и принимается жарить…
Читать дальше