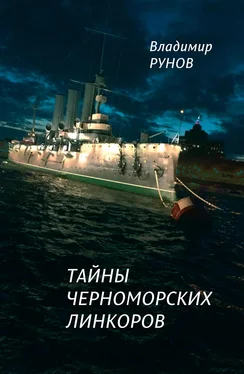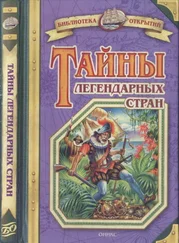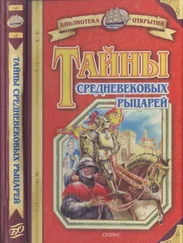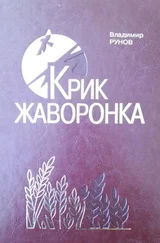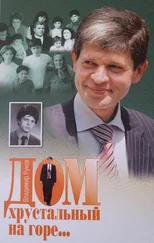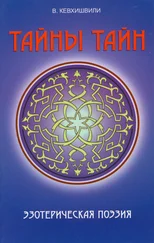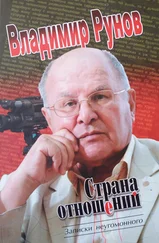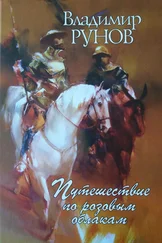В 1925 году страна с шумом отметила двадцатилетие первой русской революции. Главным фактом этого события стал выход на экраны фильма Сергея Эйзенштейна. Накануне Нового года в Москве, в Большом театре, состоялось торжественное заседание с участием правительства, завершившееся премьерой кинокартины «Броненосец «Потемкин»». Я думаю, немного в мире есть художественных произведений, столь потрясших зрителей вот так сразу, с первого опубликования.
Это было вполне в духе времени: с классической сцены в жизнь властно входило новое искусство и сразу с оглушающим успехом. Критики восторженно писали: «В стены Большого театра – признанной цитадели традиционного академического искусства – ворвался кинематограф».
Для «Потемкина» наступили времена всеобщего восторга и подогретого им энтузиазма, а затем и эпоха безусловного идеологического и пропагандистского поклонения. Эйзенштейн сразу и безоговорочно стал киноклассиком на все времена. Не беда, что великий режиссер всегда вольно обращался с фактами. Например, в фильме «Октябрь» он придумал штурм Зимнего дворца. Через ворота арки Зимнего дворца, которые редко когда закрывались, перелезали вооруженные матросы. Однако именно эта сцена вошла потом как документ во все последующие кинопроизведения об Октябрьской революции.
В «Потемкине» роль мятежного броненосца исполнял старый корабль «Двенадцать апостолов», который еще в 1907 году вывели из состава флота, и он ржавел в глубине Севастопольской гавани. Во время восстания эскадренный броненосец «Двенадцать апостолов» был в правительственном конвое и готов был открыть огонь из башенных орудий по мятежнику. Да и сцена на одесской лестнице была придумана, но столь гениально, что некий солдат, принимавший участие в подавлении одесского восстания, впоследствии эмигрировавший в США, через много-много лет, увидев в Нью-Йорке фильм Эйзенштейна, был до такой степени потрясен расстрелом на ступенях, что пришел в полицию и заявил, что готов нести кару за совершенное злодеяние.
Настоящий же «Потемкин» ко времени съемок уже был расплавлен в мартеновских печах Мариуполя. И было что плавить – толщина его брони доходила до трети метра! По военно-морским оценкам это был замечательный корабль, до последней заклепки отечественного производства, а знаменитые пушки были изготовлены на Путиловском заводе. «Потемкин» прожил для линейного корабля очень короткую жизнь, всего 15 лет, а вот его артиллерийские башни существовали еще долго.
Их поднял ЭПРОН, водолазно-судоподъемная организация, очень много сделавшая, чтобы пополнить ряды молодого советского флота за счет восстановленных кораблей царского времени. Особое внимание уделено вооружению, которое отличали мощь и надежность. Несмотря на несколько лет, проведенных в морской воде, пушки «Потемкина» быстро привели в рабочее состояние и установили в качестве береговой батареи на острове Березань, прикрывавшем гирло Днепра. Она просуществовала до начала Великой Отечественной войны, не сделав, однако, ни единого боевого выстрела.
Немцы не вводили свои корабли в Черное море, а их союзники – румыны, зная огневую мощь «Потемкина», никогда на расстояние залпа к Березани не приближались. Орудия были подорваны нашими же саперами при эвакуации с острова и закончили свое существование в пятидесятые годы в тех же мариупольских домнах, где когда-то был расплавлен знаменитый корабль, проживший под тремя именами, но навсегда оставшийся в отечественной истории как броненосец «Потемкин».
Вот уж жаль! Сохрани мы эти пушки в музее – осталась бы навечно вещественная память о корабле, всколыхнувшем весь мир, ставшем предвестником тектонических потрясений, обрушившихся на Россию в грозном двадцатом веке, который поэт совершенно справедливо назвал «волкодавом», что бросается на плечи мировому человечеству.
Немцы, оккупировавшие Украину, потребовали от России спустить андреевские флаги и передать корабли им. В знак протеста часть флота ушла из Севастополя в Новороссийск, но и там желанной уверенности не получила.
Два самых крупных корабля – «Императрица Екатерина Великая» и «Император Александр III», под воздействием февральской революции переименованные в «Свободную Россию» и «Волю», темными громадами замерли на рейде Цемесской бухты в окружении миноносцев, среди которых находился и будущий «могильщик» эскадры – миноносец «Керчь». Его командир, лейтенант Кукель, единственный, кто решился на святотатство – расстрел собственных кораблей. Оказывается, Кукель уже давно находился под влиянием большевиков, но об этом тогда еще никто не знал. Думали, просто отчаянный офицер, «слуга царю, отец солдатам». Как часто бывает – ошибались…
Читать дальше