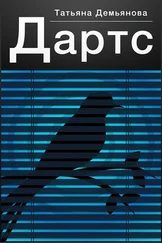На похоронах у меня неизменно урчит живот. Сколько бы раз я на них ни был, всякий раз одно и то же: от голода у меня сосет под ложечкой. Хоронят коллегу, с которым я не очень хорошо, но был знаком. Ему было сорок семь лет. Стол богат: как угощение подают утку с яблоками, селедку под шубой, оливье, салат с копченостями, нарезку, соленые огурцы под водку. Только я, конечно, не пью, – на похоронах за этим следят строго, – наливаю себе в стопку воду. Разговор идет, рассказывают истории с участием погибшего. Смеются. Все как положено. Когда жена почившего напивается, то наклоняется ко мне и со злостью шепчет, отчего то был не я, или любой другой из тех, у которого никого нет и который никому не нужен. Отчего то был ее муж? И плачет. Я обнимаю ее. Как ей объяснить, что у смерти существуют законы? Что у нее свои прописные истины? Что она выбирает? И выбрала ее мужа? Пусть на человеческий взгляд смерть случайна, у нее своя логика. Сколько раз я наблюдал, как умирают те, чье время пришло, – внимательный глаз может заметить это. Стоит человеку отмерить свой срок, как он становится доступен для любого рода происшествий и заболеваний. Если бы только погибший обратил внимание на свое внутреннее состояние, то разглядел бы в себе признаки увядания: смерть как гость, сообщающий о себе вежливым стуком. Я встречал нежильцов, которые через некоторое время умирали. Их всех отличал общий признак – вокруг них была аура смерти, от них исходил характерный запах. Редкий собеседник способен заметить это.
Как объяснить той женщине, что я давно знал, что ее муж на краю могилы?
Я не терплю классической музыки, мне тяжело ее слушать – она уносит слишком далеко, мне с трудом удается вернуться. Она растворяет в себе, переносит за пределы разума, так, что сложно найти дорогу назад. Руки трясутся, ладони потеют, зрение туманится, когда первые аккорды мелодии дают о себе знать. Все выше и выше, исчезаю, и где я – непонятно: не слит ни с природой, ни с миром, но вне его. Так кобра забывает себя под звуки дудочки и следует за заклинателем. Музыка манипулирует сознанием, делая его податливым, как пластилин. Любая манипуляция вызывает у меня протест и отвращение. Не так много вещей вызывают эти чувства – гадливость мне несвойственна.
Собирать деньги с людей не самое увлекательное занятие. Объезжать дома, стучаться, смотреть – смотреть так, чтобы люди без слов понимали, зачем к ним пришли, держать в руках конверты, складывать в сумку, отвозить владельцам. Нет ничего скучнее. Но недавно вышла забавная история.
Дверь открылась, и на пороге показалась девчушка лет десяти, сообщила, что родителей нет дома. Раз нет дома, решил я, остается только забрать девочку с собой. Она весело болтала ногами, слушала в машине «Бременских музыкантов», пока я ходил по заданным адресам, совсем не плакала (дети никогда со мной не плачут), и мы с ней даже поели мороженого. К вечеру я возвратился в ее дом – родители оказались на месте и предоставили положенную сумму. А я не пожалел, что так вышло, – с девчушкой день выдался веселым. Я так и сказал ее отцу, что в следующий раз при похожем раскладе ее не верну.
Меня сморил сон, что от хлороформа. Двенадцать часов пролежал я в кровати, и вот отчего. Накануне преследовал мелкую сошку, до того мелкую, что она затерялась в городской траве. Человек этот был ростом не выше ста пятидесяти сантиметров и широк в плечах. Целый день я караулил его, и все напрасно – его известили о слежке. Я отсек злость – она мешает действовать и думать – и погнался за ним. По всем местам, где он мог бы спрятаться, и застал у любовницы. Она долго не открывала дверь, а когда распахнула, он уже успел перебраться с балкона на пожарную лестницу. Выскочив за ним, я бездумно пустился в преследование, позволив радости от удачи овладеть мною, – то, чего я никогда не допускаю: когда я настиг преследуемого, его приятели обступили меня. Пока двое держали меня, остальные наносили удары и угрожали, в конце швырнули на асфальт и плюнули.
К вкусу собственной крови можно испытывать единственно нежное чувство – смакуешь родное, принадлежащее одному тебе. Облизываю окровавленные губы, как будто они смочены в сладком нектаре. Тело ноет, но эта боль не достигает желанного предела.
Я встал и, качаясь, побрел к машине. Люди шарахались от меня, как от чумного: они недооценивают значение крови.
Заживление продвигается. Через пару дней смогу вернуться к работе.
Звонит Иван, намеревается прийти в гости, но я отговариваю его. Он рассказывает, как у него дела, что он изучает, и как строго к нему относятся преподаватели. Проявление строгости – это спасение, объясняю ему, воспитание идет в верном направлении. А направление как раз определяется, когда судьба преподносит суровые уроки. Прикладываю ладонь к срастающемуся ребру, сознавая, что то – путь к знанию, что не ведает границ человеческого разума.
Читать дальше