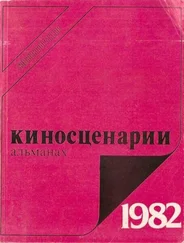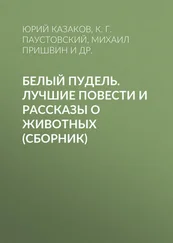– Да, это важно, – сказала она. – Это можно прочесть по-русски?
– Есть перевод, но он не очень нравится. Я сейчас как раз перевожу ее заново.
Я уже вылил всю лейку, и мне надо было сходить на кухню набрать новую. Мне не хотелось, чтобы она узнала, чем мы с Анри занимаемся на самом деле. Хотя тогда я не думал, что мы с ней еще увидимся. Правды ради, Фуко и Бодрийяра я тоже перевожу, но на это нельзя прожить.
– Так над чем он так ржал?
– Кто, Фуко?.. А, вы имеете в виду Анри!.. У вас довольно хорошее произношение, но это слово, если быть точным, переводится как… Ну, хм…
– Жопа?
– Скорее так. Но это точно не клиническая терминология.
– Ладно, пошли, – сказала она, вставая и сминая окурок. – Пора уже нести, ему сейчас хорошо, ни фига не больно…
Выходя за ней с лейкой, я еще удивился, какая у нее прямая спина – как у всадницы на одной из тех дедовых картин, которые теперь пылятся на чердаке на даче. Образ – все в конце концов только образ, гештальт, завораживающий до тех пор, пока жизнь не стукнет нас мордой о стену настоящего. Но образ всякий раз появляется в каком-то обрамлении, в рамке обстоятельств времени и места, и все это он потом тащит за собой, и мы сами тоже оказываемся навсегда вписаны в эту рамку, даже если образ оказался не тот.
Я спохватился и нашел шоколад и шампанское, благо такого добра в закромах у Анри всегда было навалом:
– Вот тут как раз Восьмое марта будет скоро…
– Спасибо, это мы с Томой после дежурства раздавим, – сказала доктор, буднично принимая дары. – Да, вот еще… Вещи сейчас уже некогда собирать, подвезете потом, а водку какую-нибудь хорошую захватите для Хи, мало ли что. Коньяк он не пьет, то есть пьет, конечно, но любит водку… Нет, зачем вы мне ее суете? Мы его сдадим и уедем за следующим, а с хирургом будете разговаривать вы. Ну? Раз-два!..
Анри глупо улыбался и пытался вяло возражать против носилок, но спорить с врачом было не положено. Когда мы с водителем его подняли, он вдруг забеспокоился и спросил:
– Куда они меня везут? Переведи, пожалуйста. У нашего посольства есть контракт с Американской клиникой, там все говорят хотя бы по-английски, мне надо туда.
– Американская клиника – это да! – сказала Лиля. – C’est quelque chose! Вы ему объясните, что у него перелом мелких костей кисти с вывихом. Ребра срастутся, а перелом надо по-настоящему оперировать, он может оказаться сочетанным…
– Как?
– Ну, черт его знает что еще может быть у него, сотрясение мозга например.
– Твой друг-лягушатник русских девок хочет еще полапать? – добродушная Тамара решила объяснить доходчивей. – Чтобы пальцы слушались, надо в нашу больницу. Лиля позвонит своему Михиладзе, а американские-то в русской травме что понимают?
Мы стащили Анри по лестнице – он был такой субтильный, что казалось странным, как он вообще мог сверзиться со стремянки, а не спланировал с нее, как лист. Водитель ловко запихал его по рельсам в пикап, а Тамара закурила и сказала, как бы подводя итог:
– Погода, блин, хрен проедешь, все русские люди руки-ноги на улице ломают, а этот со стремянки на… (глагол заглушил шум проехавшей мимо машины) – одно слово: француз. А ты, переводчик, поезжай следом, где приемное отделение, знаешь? А то в травме народ простой, если что не так поймут, что-нибудь не то и отрежут, а ему это самое может еще пригодиться, он, вон, молодой еще.
– Садись вперед, Тамара, – скомандовала доктор. – Я поеду с больным.
– Только ты сразу в фургоне ему не давай, – сказала Тамара, стреляя окурком в сугроб. – А то Гоги его зарежет, он же наполовину грузин, будет конфликт международный. Это я шучу, не обращайте внимания, – добавила она для меня. – Хотя в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Ладно, поехали…
Карета тронулась. Какое-то время я пытался гнаться за ними по снежной каше, но их водитель включил сирену и синий маячок, а на проспекте они развернулись поперек двух сплошных и умчались – в сиреневой от сумерек метели синие всполохи были видны еще долго, словно чистое северное сияние над чадящими пробками Москвы.
Я отстал от них, наверное, минут на пять и потерял еще десять, пока ставил машину у ворот и бежал по снежной каше до приемного отделения.
* * *
В приемном покое огромной городской больницы здоровый человек скоро начинает искать, чем бы заняться, а делать-то тут совершенно нечего, пока ты ждешь и смотришь, как санитары с волосатыми руками, деловитые, как черти, увозят совершенно тебе незнакомый очередной полутруп в бесконечность коридора. И с больным, которого ты мечтаешь им поскорее уж сбыть, ты начинаешь болтать лишь бы о чем, как с ребенком, только бы не думать, что, не ровен час, и тебя точно так же повезут туда, куда тебе пока вход воспрещен и где все – неопределенность.
Читать дальше