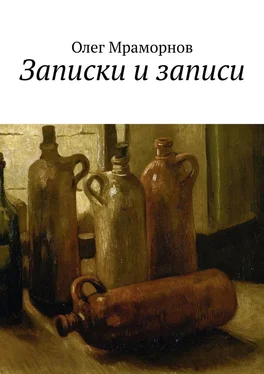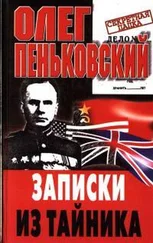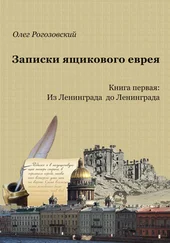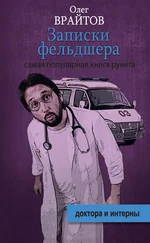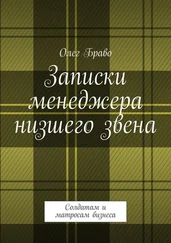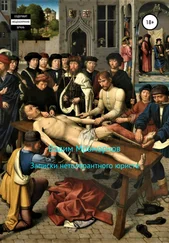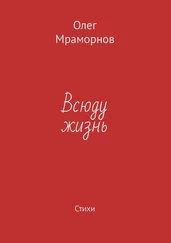Как преподаватель он воздействовал сразу и на разум, и на чувства, будоражил юные умы и сердца – он это умел и не давал ученикам закоснеть в узкой самости. Среди учеников попадались восприимчивые ребята; я это знаю непосредственно по их устным замечаниям и отзывам, по письменным работам, которые он мне показывал. Он организовал и вёл популярные в городе литературно-философские студии. Был креативен, изобретателен, философствовал свежо, из собственной глубины, ибо всегда жил интенсивной внутренней жизнью.
Я воспитался на чтении поэзии, а он до бесконечности любил Достоевского. Герои этого писателя, с их блужданиями и исканиями, сформировали брата. Он не щадил Петра Верховенского и шёл дальше Шатова – то есть верил не только в Россию, но и в Бога. Как настоящий литератор – неважно, пишущий или преподающий – превыше всего ставил гармонии Пушкина. В свои последние дни он так объяснил мне замысел «Станционного смотрителя», где, оказывается, Пушкин даёт – на примере Дуни – свой вариант с историей блудного сына (дочери), что я развесил уши. Внимательно читавший Константина Леонтьева и Василия Розанова, он стремился и их включить в умственный оборот провинции, чтобы та не поскучнела до полной серости.
…
Нам хватало впечатлений жизни; его энергичная натура ненасытно требовала жизни и движения; мы мало говорили о смерти. Старуха с косой явилась незаметно. В свой последний день он попенял мне, что я не видел смерти вблизи. Я обиделся, ибо наблюдал смерть близких людей, но потом понял, что он предупреждал о своей внезапной кончине. Он про неё знал. И вправду, я никогда прежде не видел смерти в такой внезапности нападения. В полной внезапности. Как будто выпрыгнула из засады, вырвала, унесла, сделала человека невидимым.
Накануне, за столом, мне было короткое видение его похорон, но я отогнал его как досадное – брат был задорен и весел. Мы вспоминали нашего хромого отца, его любовь к книгам, сентиментальность. Вечером ходили к реке, я купался, мы сидели на крыльце и пели раздольные песни. Он знал много казацких песен: строевых, плясовых, лирических, исполнял их на старинный манер. Вот он завёл более современное, привезённое из Чехии: « Курил махорку, хороший табак, /любил девчонку донской казак…» Повздорили из-за мелочи. Помирились. Глубокой ночью страшный гром спустился в наш садик и грохотал, сотрясая стёкла, в яблонях и малиннике. С утра он почувствовал боль между лопатками. Пришла медсестра, сделала укол, боль отступила, он решил, что ничего не препятствует ехать после обеда; я дал ему в дорогу почитать роман португальца Сарамаго «Перерывы в смерти». Смерть сделала короткий перерыв, он благополучно доехал до города, по дороге шутил с женой, но едва успел выйти из машины и нагнуться над капотом, как она явилась. Понадобилось несколько мгновений для перехода в иное. Смерть разорвала уставшее сердце. Открылась беспредельность.
…
В детстве он на несколько голов превосходил меня – в задорности, остроте реакций, весёлости. Превосходил по всем статьям, ибо я был замкнутый и тихий малый. В памяти ранних лет он чаще всего там, где наш приёмный дед Василий Петрович, такой же весёлый заводной человек. Вот дед катает из свинца дробь, а брат рядом, дед мастерит капканы на сусликов, острит крючки на стерлядку, и Игорь тут как тут, дед плетёт челноком сети, и брат недалеко. Дед треплет его по вихрам, тискает. Брат фыркает, ежится, смеётся. Друг другу они говорят что-то весёлое, смешное. Дед шутейно зовёт его «друг-Колька» – ему нравился советский фильм «Друг мой, Колька» про такого же, как брат, озорного мальчонку.
Однажды он возвращается на велосипеде от деда Василия, с его экскаватора, которым этот ловкий человек в то время добывал красную глину. Возвращается один, по широкой степи, растрёпанный и взъерошенный, и взахлёб рассказывает про нападение орлов, от которых спасся под велосипедным колесом: испугался спикировавшую рядом большую птицу и залез под колёсные спицы. У него навсегда осталось внимание к птицам. «Знаешь, как эта птица называется? – Да не белый лунь, а гагара. А та? – Это щур, вроде райской птички по яркому окрасу. А эта? – Не дрофа, а канадский гусь».
Он любил наблюдать орлов-курганников. Возил меня на машине под самые скаты холмов, на Куру, смотреть на парящих птиц.
Обновится, яко орля, юность твоя!
…
Вот он вернулся из Чехии, живёт в селении, повторно женатый, снова семейный, но с какой лёгкостью и живостью косит траву на корову Кпопку. Как ловко рассовывает эту траву в мешки – только успевай относить в багажник. Сколько грации в его косьбе, в его сухопарой, лёгкой, до последних лет изящной фигуре. В ельцинские голодноватые годы они с Наташей, учитель и врач, ухитрялись держать корову, были у них на столе масло, творог, сыр. Тоже своего рода удальство. Вот к нему приехал из Чехии сын, и они ловят кузнечиков для наживки на крючок, бросаются за ними, сталкиваются лбами, хохочут, валятся в высокую траву…
Читать дальше