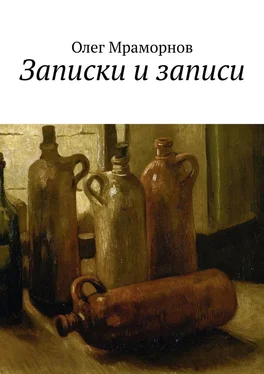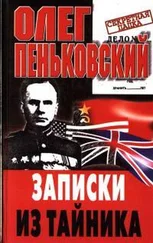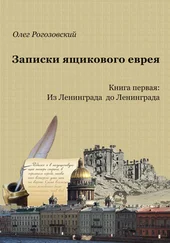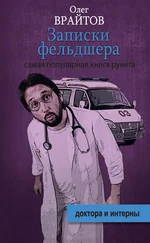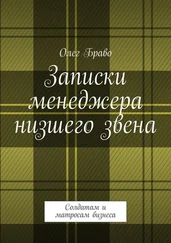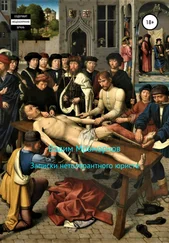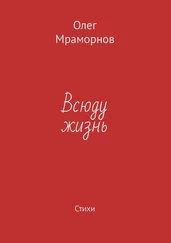Я буду скакать по полям задремавшей отчизны.
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времён…
…
Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
…
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти дойду до могилы…
Отчизна и воля – останься, моё божество!
…
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.
Славянская душа брата любила щемящие мотивы песен «Лучина», «Вот и станешь ты взрослою…», «Меж высоких хлебов затерялося». К этой лирике примыкает и её продолжает Рубцов. И совсем удивительно сходится с лодкой . Игорь однажды – в прежние годы – рыбачил сетками в одном укромном местечке и пустился в непогоду на лодке вниз. Поднялась такая волна, пошёл такой дождь, так всё гремело и стонало, что он более не мог плыть, подогнал лодку к берегу, бросил, оставил там, более не вернулся, и она догнила на мели. Отец ругался, был недоволен. Но брат мог поступать резко: лодка была старой, смолить и конопатить её он более не желал.
До страсти любил он окружавших нас в детстве и юности чудаков-выпивох. Счастливо воспалялся и смеялся, погружаясь в поток жизней, посреди которых и рядом с которыми осуществилась его собственная. Не долгая – не дожил до шестидесяти, но интенсивная, порывистая, красивая перед моими глазами.
Он был по натуре всадник, наездник, скачущий в неизведанный простор и оставляющий позади скучную обыденность. Расширял горизонты, мерился силами со стихией, с препятствиями и с людьми, которые пробовали ставить ему преграды на его пути, пытались помещать быть вольным человеком. При этом он был любомудр, воспитанный на русских мальчиках Достоевского, такой же (более поздний по времени) русский мальчик из донских степей. Как человека, решающего религиозную загадку бытия на земле, его влекло всё неизведанное и подлинное. А подлинность ложится на чистое и доверчивое сердце, способное к удивлению.
Фальши он не переносил. Всякого кривляния, претенциозности. «Не верю!» – говорил он, сталкиваясь с очередной фальшивкой. «Не верю! – сказал за день перед смертью, посмотрев телевизионный сюжет о съёмках сериала на тему „Тихого Дона“, – не верю, что Маковецкий сможет сыграть Пантелея Прокопьевича. Какой из него Пантелей Прокопьевич!» (Маковецкий в этой роли заметно уступает актёру Ильченко, игравшему Пантелея Прокопьевича в классическом фильме Сергея Герасимова.)
Я был свидетелем преображения его ума. Сын земной девы Иисус есть Сын Божий! Поразительно, невероятно! Мы с ним причащались из одной чаши. Всё, что укрепляет чувство иной реальности, влекло его. Он не уставал удивляться чудесам, которые отрывает нам природа, откровение невидимого Бога. Жажда неизведанного, таинственного находила выход в поисках истинного человека. Но ещё более чудесно Царство Божие – и свободой, и правдой. Там люди насыщают свою жажду правды. И воздаст ми Господь по правде моей, по чистоте руку моею воздаст ми .
…
Он пошёл вослед моим книжным занятиям. После прохождения службы в армии (служил со всякими приключениями на Амуре, заливался смехом, когда об этом рассказывал, служил, впрочем, исправно и вернулся из армии старшим сержантом) обучался филологии, в институте влюбился в студентку-чешку, женился, несколько лет прожил в Чехии, всю её объездил и хорошо знал чехов ещё в семидесятые годы. Объяснял чешским людям, что вовсе не все русские имели желание проехаться по ним танками, выслушивал от братьев-славян гневные слова и терпел тычки. Родил в Чехии сына, вернулся; работал словесником в местной школе, перебрался в областной центр, преподавал в лицее, в гимназии, в институте, в православном училище…
Он не был удобным человеком. И в областном городе оставался вольным одиночкой, трудно сходился с людьми. Но не оставил суждённого ему поприща и работал по призванию – передавал не только учебный материал, а пережитое, познанное. Школа не затянула рутинностью, преобладанием женского пассивного начала. Он не поддавался – до конца остался вольным человеком степей, не согнутым, не покорённым.
Читать дальше