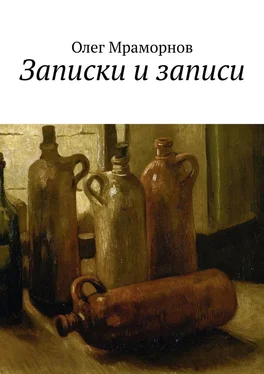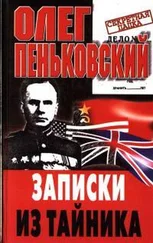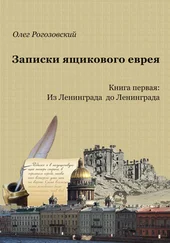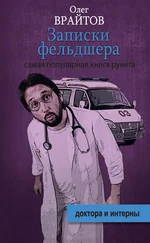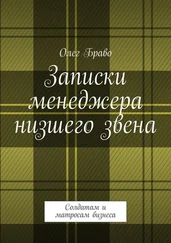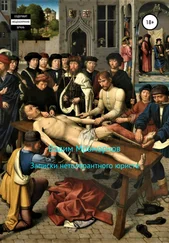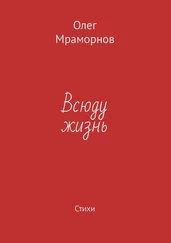Это было давно. Я шёл осенним лесом в пойме, где лес растёт от реки и до подножия выгоревших диких скатов известковой Восточно-Донской гряды. Река извилистая, то и дело выгибается. Большая, Малая – это основные излучины, а вообще, не сосчитать. Одна такая излучина описана в «Тихом Доне», где река «будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится». Я огибал другую излучину, двумя сотнями километров ниже по течению. Прежде я много раз бывал в этом лесу, но не один, а родственной артелью, компанией. По влажной осенней погоде мы искали в тополях, вербах, ясенях, осинках грибы – шампиньоны-пачерики, подгруздки, подосиновики, белые, и бодро перекликались наши голоса. Голоса умолкли, их время прошло, я больше не услышу их. Неподалеку, на озере, мальчишкой я помогал косить чакан для бабушкиной хаты. Отъехал на лодке на середину озера. Чистейшая вода. Видно дно. На дне блестит золотом то ли большая монета, то ли медаль. Просматриваются контуры, рисунок. Скифское или хазарское сокровище, не знаю, не знал тогда ни про хазар, ни про скифов. Надо было достать, но глубоко, змеи, водоросли, илистое дно. Я испугался нырнуть. Как раз близ того озера через несколько лет мы застряли на грузовике. В тот год я закончил среднюю школу, нигде не учился и не работал. Шла перепись населения, и мне доверили стать переписчиком. До переписывания надо было ходить по дворам, делать предварительные опросы. Я ходил. Однажды с опросными листами заехали в совсем глухой посёлок при разрушенном Кременском Вознесенском монастыре, в двадцатые годы преобразованном в детскую колонию, а потом в дом инвалидов. В обшарпанных монастырских кельях – хроники, страдающие душевными недугами и беспамятством. Некоторые не помнят ни имени, ни фамилии, ни отчества, ни места и года рождения. Возникают запинки. Безымянным даются имена, проставляется примерный возраст. Тоже жители страны, подлежащие учету. На обратном пути мы застряли. Водитель ругается, пробует вывезти машину. Никак. Стоим при закатном кроваво-красном солнце, а справа выгоревший, зловеще жёлтый, угрюмо шелестящий на зимнем ветру камыш. Смеркается. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Мотор заглох. До селения вёрст пять. Тащимся ночью в зимнюю ростепель пешком. Слева – угрюмые контуры бугров с волчьими балками. Бурое пространство в снежных проплешинах. Ночь, дичина, свобода. В этом пограничье я дорос до восемнадцати годов. Переписчик. Мне немного заплатили от местной администрации. Я накупил книг.
…Стоял ясный безветренный осенний день. Листья, в массе ещё зелёные, висят бездвижно, и ветер не играет их изнанкой; светит солнце, сияет голубая лазурь неба, воздух чист и прозрачен так, как прозрачен он лишь в погожие осенние дни. Не самая поздняя осень, но солнечный диск обескровлен, в нём не достаёт буйства красок, и, что более всего поражает, не слышно и не видно птиц: ни одна из них не вспорхнула, не задела крылом листьев, не черкнула по неподвижному воздуху. Где они? Не видно не только распластанного в небе коршуна или ярко раскрашенного, стремительного в полёте щура – ни вездесущих ворон, ни крикливых сорок, ни даже воробьёв. Заснули насекомые, не кружатся в воздушном танце бабочки, не шуршат в сухих листьях юркие ящерки. В дорожной пыли истлевает раздавленное колесами машины узкое тельце маленькой чёрной змейки. А её живые сородичи? спрятались в убежища? Почему так рано, до Воздвижения? Какое омертвевшее пространство. И я пошёл к реке напрямик, через валежник, кустарники. Зеленоватая у берега, серебристой фольгой блеснула вода. Она колыхала камыши и осоку, свесившиеся ветки краснотала и ивы. Притаившись, я услышал перешёптывание струй, тихое согласное пение. Пространство жило в потоке. В лесу оно застыло, а здесь было живым. Вот бухнулась в воду лягушка, из остролистых травяных зарослей вылетела синяя стрекозка, плеснула рыба. По пути назад запорхали лимонницы, затенькала птаха, и даже лиса показала рыжий хвост. Пошли пойменные огороды, левады, обнесённые полусгнившими плетнями с кривыми жердинами, с сухими будыльями кукурузы, с серыми бугорками тыкв. Показались люди, которых я пытался узнать в лицо: в юности я многих знал, но время уходит вместе с людьми. Теперь лишь пространство будило память.
Да, время уходит. Остаётся пейзаж. Река и степь. Безбрежная степь возвышенного донского правобережья, простроченная внизу извилистой каймой Дона. С правобережных холмов открывается неоглядный вид на Задонье, где за полосой пойменного леса видны лоскутки озёр, желтеют проплешины песков. Лучше всего смотреть на Дон с возвышенности: где-нибудь у монастыря, у Перекопки или у Клетской открывается обширнейший кругозор. Да и сами холмы поражают разнообразием своих возвышений и обрывов, долгими подъёмами и спадами. Куда ни пойдёшь, ни поедешь – степь и степь, разветвления дорог, прошвы лесопосадок, деревца в низинках, кряжистые массивы земли, увалы и курганы, лога и балки. Посреди каменистой степной шири – пахотные поля, орлы-курганники, коршуны и ястребки, пролетают белые гагары и цветные гуси. Ближе к Дону – многоцветие лугов, вкрапления южного леса. Летом здесь чувствуется сладкий медовый запах, а со степи доносится горьковато-полынный, шалфейный. В лесу – тополя, вербы, дубы, клёны, осины, яблони и груши, тёрны. Растёт серебристый лох. Его белесоватые с бархатистой шкуркой и с большой косточкой вяжущие ягоды птицы не склёвывают до морозов. После морозов ягоды начинают немного сладить.
Читать дальше