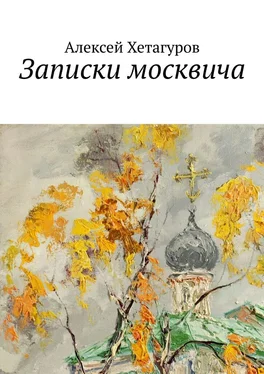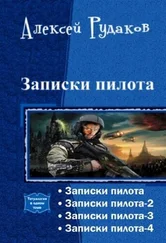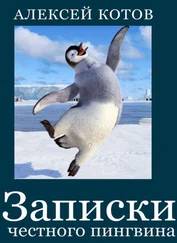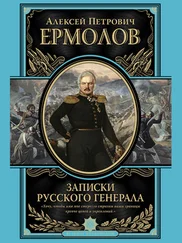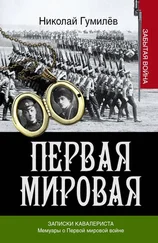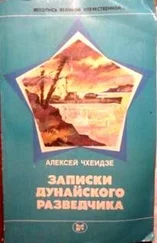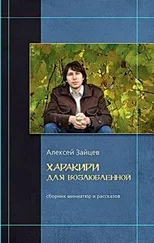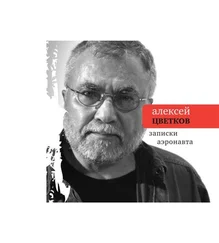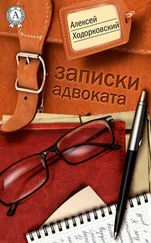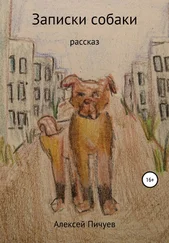В Кусково я написал много этюдов. Домики, сараи, купальни на заросших, затянутых ряской прудиках. Занесенные снегом аллеи дворцового парка. Как-то стал писать такую аллею. Сыпал снег. Подбегает маленькая старушка – люблю таких: в сером шерстяном платочке, кацавейке и валенках.
– Сынок, ты снимать будешь?
Я подтвердил.
– Ты где снимать будешь?
Я показал на аллею.
– Я вот сейчас по ней пойду, а ты меня сними!
Я сделал собачью стойку. Старушка поблагодарила и весело затрусила по аллее, которая вела из одного конца парка в другой. При всем желании я не смог бы написать ее, так как до сего дня не умею этого делать – в два-три приема, а только путаюсь в «ногах-руках».
Неисповедимы пути Господни! Как-то сидел на скамейке в Кусковском парке. Солнечный теплый осенний день. Сижу и мечтаю: жить бы здесь рядом, ходить рисовать, гулять по парку и окрестностям. Мечта, да и только! А вот и сбылась мечта милостью Божьей и волею судьбы – живу в благословенном уголке теперь уже Москвы. Отметил я из опыта быстротекущей жизни, что если уж чего очень хорошего хочется, то оно рано или поздно сбывается. Многое у меня сбылось такого, о чем мечталось, но казалось несбыточной фантазией!
Все хорошее и доброе охотно западает в детскую душу. Матушка как-то рассказала мне про импрессионистов, картины которых видела в Музее изящных искусств в старом здании на Пречистенке – потом музей переехал на Волхонку. Какой там был портрет актрисы Жанны Самари работы Огюста Ренуара: «Кожа живая – дышит, воздух ощущается! Обязательно посмотри импрессионистов»! Долгое время их негде было увидеть. В Музее изобразительных искусств была устроена выставка подарков Сталину. Я запомнил только рисинку с портретом вождя, видимым в микроскоп – работа китайских умельцев. Потом вождь отошел в мир иной, музей открыли, импрессионистов выставили, сделав оговорку: «упадническое буржуазное искусство». Но можно было ходить и смотреть. Стали привозить выставки – лед тронулся. Это время потом назвали «оттепелью».
Близких друзей и компаний у меня не было. Их заменили Третьяковка, Музей на Волхонке, выставочные залы на Кузнецком Мосту, многочисленные богатейшие московские музеи – Исторический, Политехнический, мемориальные квартиры-музеи и другие. Так, в школу я ходил мимо квартиры художника Аполлинария Васнецова.
А однажды поднялся по старой темной лестнице в квартиру В. Маяковского. Позвонил в старый звонок, впустили в бывшую коммунальную квартиру – двери комнат соседей запечатаны. Слева от входа открыли дверь в маленькую комнатку. Сильно и кисло пахло старым диваном. Маленький стол, тумбочка. Скромнее некуда. Классик был пуританином, ничего себе не приобрел. Я представил, как он, застрелившись, упал и перегородил собой всю комнату…
Мне Маяковский казался советским хамом, приспособленцем – а тут скромная обстановка, потертая одежда на вешалке. Мама как раз читала его переписку с Лилей Брик, изданную в литературном наследии. Зачитывалась вся московская интеллигенция. Начал читать – Маяковский подписывался «твой Щен», то есть Щенок. Стало жалко загубленный талант. Видел его фотографии – грубый мужик с папироской на выпяченной губе. А в гробу лежал красивый юноша с тонким одухотворенным лицом… Развешивать ярлыки – последнее дело, но это понимаешь слишком поздно.
Мои родители радовались, что я вроде бы наконец приткнулся к чему-то путному. Поощряли мои робкие попытки. Отец сам хорошо рисовал. Он учился в 1-й Владикавказской гимназии – ее же окончили Вахтангов, Лисициан. Учился отец хорошо, но особенно его выделял учитель рисования, который сам окончил Училище живописи, ваяния и зодчества. Фамилия у него была, кажется, Гусев. Он советовал мальчику стать художником, предлагал рекомендацию для поступления в училище. Отцу тоже хотелось, но он любил еще математику, поэтому был в нерешительности.
Но потом наступили смутные времена. На Кавказе тогда строго придерживались семейных традиций – «этикету», как говорил отец – почитали старших. Поэтому судьбу его решил совет старейшин – учиться на землемера. Это была почтенная и хорошо оплачиваемая профессия на Кавказе, так как в горах надо было прокладывать дороги к рудникам и населенным пунктам. Козьи тропы превращались в современные дороги, которые функционируют и поныне.
Отец воспитывался у деда, который имел дело и несколько домов во Владикавказе. Все это хозяйство хотел передать отцу, как юноше серьезному и способному. Но наступила революция, и все пошло прахом. Родственники предлагали деду все продать и уехать – у него были связи. Но дед только посмеивался и повторял: «Эта заварушка скоро кончится». Он почитал Государя Императора и верил, что тот спасет страну. Одного внука – моего отца – в честь императора назвал Николаем, другого – Романом, в честь всей династии.
Читать дальше