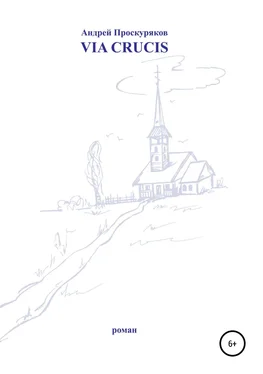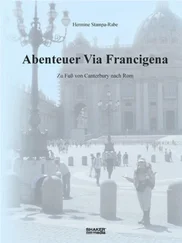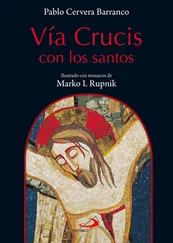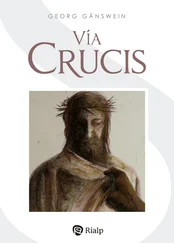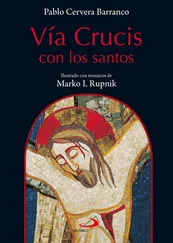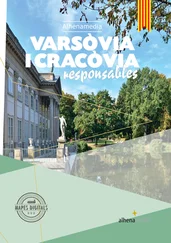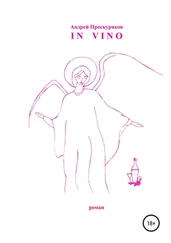Ровно в 18-30 к дому Дениса подъехала машина от Кобецкого, на которой он и отправился Лебединское. Через Новый мост, построенный в начале восьмидесятых, ехать было не более семи километров. Роскошный автомобиль без шильдиков и с наглухо тонированными стёклами беззвучно скользил по щербатому асфальту, без усилий проглатывая выбоины. С ветерком промчались по деревне до церкви, распугивая кур, и свернули влево, в переулок, в конце которого стоял дом Кобецкого в окружении стройных рядов самшитов, можжевельников и голубых елей.
Оглядываясь с неподдельным восхищением, Денис, в сопровождении пожилого молчаливого водителя, прошёл через парк ко главному входу, обрамлённому колоннами. По дому его вёл уже другой вергилий, такой же молчаливый старикан, только маленький и толстый. И всё же в доме было что-то такое, что создавало впечатление картонного аристократизма и нелепых потуг на врождённое благородство. Словно в величественно-мрачный замок рыцаря-императора вселился купец третьей гильдии и слегка “улучшил” его, привнеся с собой едва заметные штрихи ямщицкого шика и торгашеской роскоши.
– Прошу, – сказал провожатый и открыл высокие двери в один из залов. Денис шагнул внутрь.
Сухой подтянутый старик с мутными глазами и узловатыми пальцами сидел на бежевом кожаном диване в окружении двух лупоглазых престарелых мопсов, окрас которых был подобран в тон обивке. Или наоборот. Одет он был в голубые молодёжные джинсы, неоново-синие мокасины “Прада” на босу ногу и серую рубаху типа “Оксфорд” навыпуск. Довершала образ бандана с колумбийским флагом, лихо повязанная поверх лысого лба. Несмотря на актуальный лук, Николай Иванович был похож то ли на мелкого партийного работника времён упадка, то ли на вороватого приказчика из скобяной лавки эпохи Николая Первого, но ни как на среднекрупного бизнесмена двадцать первого века.
На двух креслах вокруг пушистого ковра серо-зелёного цвета сидели Борис и худая, спортивного вида остроносая женщина лет сорока в свето-сиреневой летней тройке и узких золотых очках. Между ними стояло пустующее кресло, в которое и сел Денис, пожав руку Борису.
– Знакомься, Денис, это Маргарита Генриховна, мой юрист и ангел-хранитель, – сказал Николюня, поправляя бандану. Сам он не представился и не поздоровался.
– Это я звонила, – растянув нижнюю губу в розовую нитку (верхняя при этом исчезла вовсе), улыбнулась адвокатесса, отчего её нос заострился до состояния боеголовки. – Чаю?
– Что? – Растерялся Теплоструев. – Да, конечно.
Маргарита Генриховна помахала кому-то в углу зала и тотчас перед каждым из сидящих появилось по маленькому выкатному столику с чайной парой и горочкой крошечных сахарных печений. Пожилая горничная (ну ни одного молодого лица среди прислуги!) в шотландской юбке с белым передником разлила довольно крепкий чёрный чай по чашкам и удалилась через боковую дверь.
– Денис, – серьёзно сказал Николай Иванович. – Дело вам с Борисом поручается большое. Для меня – очень важное. Я хочу тебе рассказать кое-что, может пригодиться. Да хоть для истории.
– Я с удовольствием выслушаю, – Теплоструев отхлебнул чай и почтительно кивнул головой.
– Было это году в пятьдесят пятом, или пятьдесят шестом. Нет, в пятьдесят пятом! Анна Фёдоровна, физичка наша, сообщила ещё, что Эйнштейн умер, хотя нам всё до фени было. Она нас за мукомолов держала, а мы и не дрыгались. Как подсядет на уши со своей физикой, мама не горюй! Мне тогда только шестнадцать годков стукнуло, и был я знаменитый по Зарецку хулиган. В табло любому мог заехать, держал, значит, марку. А Мишка Трунов был мой лучший корефан.
Николюня вынул из палисандрового хьюмидора толстый “черчилль” шоколадных тонов, сорвал упаковку, покрутил в пальцах и бросил назад в ящик. Его пацанская речь так резко контрастировала с дорогой обстановкой, бронзой и сигарами, что вызывала невольное восхищение у слушателей.
– Мы, дети бараков, и коммуналок, голодное военное поколение, да что мы видели хорошего? – неожиданно перешёл на патетический стиль Николюня, обнаруживая совсем другую сторону личности. Понятно, подумал Денис, человек-то не глупый и язык подвешен.
– Ничего, – зачем-то ответил Теплоструев, хотя вопрос был риторический. Хозяин ухмыльнулся.
– Мы – послевоенные пацаны-босяки, а кругом разруха. Вокруг страх и веселье, тупость и взаимовыручка, менты и вседозволенность. Я – безотцовщина. Отец без вести пропал в сорок втором. Я его и не помню совсем. Несколько карточек осталось, там мама молодая. А в пятьдесят пятом уже как старушка… Вот она картина детства: кругом пьянство, заборы покосились, бухие слюнявые инвалиды, чёрный дым из трубы, угольным порошком топили. Жирный воздух коммуналок, всегда пахнет прокисшими щами. Детство, говорят, всегда весело. Ничуть не весело мне было, я и вспоминать не хочу. А помнится всегда одно и то же. И не смерть Вождя, даже не угоревший в бане пьяный Никифорыч, он ханыжник тот ещё был, растворитель пил! А помню я чувство хлеба, особенно по первым послевоенным годам. Странное и очень-очень злое чувство. И это не голод, нет. Голод он только первое время в тебе живёт, а потом он тихо уходит и уступает место какому-то ползучему серому туману, заполняющему голову. И в этой туманной дымке, вдалеке, только одно видение – на белом столе краюха чёрного хлеба с солью. И ты её не видишь даже, а чувствуешь всем нутром, словно волк добычу.
Читать дальше