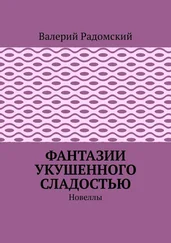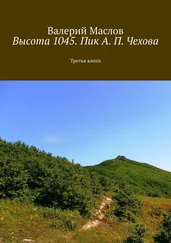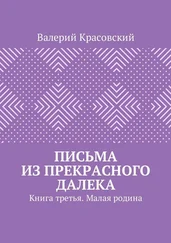Проезжая Кедрами, Михаила понесло …расхваливать всё, что попадалось на глаза. Даже испарина на лбу от этого выступила. А Николаевичу такое в приятеле явно понравилось – подыграл ему, тараща усталые глаза и гримасничая восторженно, понимая, как же это здорово быть влюблённым в то крошечное земное «моё жизненное пространство». Только Михаил, сияющий довольством в этом густо-зелёном пространстве, в этот раз не заметил лишь похожего блеска в глазах Николаевича – годами ранее, ах, сколько же раз он, воображая, был здесь, у Мишки Чегазова, но – со Станислафом. Правда, ещё не успел сказать об этом, что мечтал познакомить с сыном, а теперь – и незачем.
Передав дорогого гостя супруге Валентине, сухонькой, но с прежними, девичьими, ямочками на щеках, Михаил вернулся на улицу. И снова дрожь в руках – дочь Настеньку слушал по мобильнику и растирал грудину: сердце отдало дрожь рукам, а само щемило тревогой. Слава богу, и Толик отозвался сразу – живой, родной, и обещал приехать. А вот когда – не договорили: и не заметил, как выговорил все минуты, да с пользой и для здоровья – сердечко-то попустило!
Гостей под вечер на подворье Михаила было много ещё и потому, что пришли все, кого он пригласил. И не столько они, гости, радовали его, восседавшего за столом, бережно обнимая своими лапищами земляка и армейского друга, сколько сам факт: двор немаленький, стол под ивами (наравне с детьми нянчился с плакучими-то, чтоб выросли и прятали, когда надо, в ажурной прохладе) далеко не маленький – сесть уже некуда, а не протолкнуться. Вот и хорошо – Валерке, хочет он этого или не хочет, именно сейчас и нужна добродушная компания. А добродушие к нему – в каждом, это точно, хотя бы потому это так, что о нём знают лишь только то, что – с Донбасса!..
Гости за аппетитно пахнущим столом – уж, хозяйка Валентина постаралась, так постаралась угодить им сибирским разносолами, – расселись всё же быстро. Народ организованный, оттого и враз стихли. Михаил даже встал со своего места, говоря этим о торжественности момента, стал за спину Николаевичу не просто так, сказал коротко и ёмко и, как обычно, тихо: «За нашего теперь друга – Валеру Радомского!». К Николаевичу тут же потянулись десяток рук с рюмками и фужерами, кто не смог этого сделать – подошли и обступили частоколом согласия с тем, что отныне – друзья: с приездом, друг!
…Расходились под рыжей равнодушной Луной. Барчук, узнав от Николаевича, что тот журналист по образованию и, главное, им работал, попросил его о встрече и разговоре. Михаил догадывался, о чём будет разговор, потому и решил за всех: «Через неделю!». Владлен Валентинович, зевая и извиняясь за сонливость, согласился: через неделю – у него, дома (его отставку с должности председателя поссовета депутаты не приняли). А капитан Волошин, явно напившийся и агрессивный, но в последнее время он с этим зачастил, вызвав в кедрачах растущее пока что изумление, …капитан желал продолжения банкета – с его же плюющихся на все стороны слов. Игорёша Костромин в знак благодарности своему бригадиру за приглашение, чего он, конечно же не ожидал, вопрошающе искал взгляд Михаила, да тот и в этот раз решил за всех:
– Не гони лошадей, Макар! …Проводим и вмажем!
Сказав это так, будто и сам ещё не насладился застольем, подтолкнул Волошина к лежаку, что ядрёно пах наваленным на него сеном в нескольких шагах от калитки – посиди, или лучше полежи. Капитан, утонув в разнотравье, смолк.
…Рыжую Луну отыскало одинокое облако – ночь погасила огни, дыша лишь озером и тайгой.
—
Шаману не сиделось на краю утёса, но не полночь и не длительность его пребывания на скалистом прохладном под лапами плато были тому причиной. Ещё засветло ветер принёс мужской голос, одинаково ласковый и строгий. Это голос из его единственного сна, в котором Шаман – парнишка Станислаф, в бирюзовой воде, что ему до колен, а этот же голос, с берега, просит его не заходить в море далеко: «Станислаф, чтоб я видел тебя – мне так будет спокойнее». Голос густой, любящий и переживающий за «сына», а что это, сын – этот человечий звук Шаману приятен, как и «Катя». В этих звуках – тепло и уютно, но они же его печалят оттого, что сон не есть явь. Хотя Катя ни разу ещё не приснилась, да если бы мог таёжный волк случившееся с ней сотворить в сон. Не может Шаман этого сделать – правит тайгой, а явь – люди и звери, звери и люди, лишь во сне прячутся от самих себя.
Зверья, птицы, ползучих и ползающих, всяких, добавилось в примыкающей к береговой линии Подковы и со стороны утёса к Кедрам тайге. Словно прознали о новом кесаре, Шамане, и что он запретил людям заходить сюда с ружьями и топорами. А кто его ослушался, уже наказан – ладони им прокусил; такое наказание для взрослого человека – то же самое, что на всю жизнь звенящая в ушах оплеуха юнцу, разорявшему гнёзда от нечего делать. Охотников отвадил ещё Лис, хотя и сам бежал от кесаря с остатками когда-то солидной стаи, да теперь и кедрачей в тайге не видно. Их лодки и катера от причала артели доплывают лишь до середины озера, только куда бы они не направились далее, по простиранию Подковы вглубь или к утёсу скорби и печали, здоровенная рыбина с костяной длинной мордой следует за ними. Попробуй только забросить сеть, в мгновение ока перевернёт лодку. По человечьи она, что пограничник в бессрочном наряде по охране Подковы, но это – если по человечьи. И пальнуть в неё да ещё с нескольких стволов, по команде – тоже по человечьи, и непременно в голову – это даже не оговаривается, только искушение у рыбины закручено в пружину упорства с терпением – не разжать ничем земным.
Читать дальше