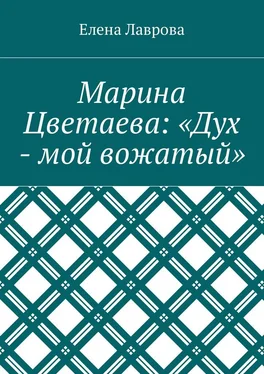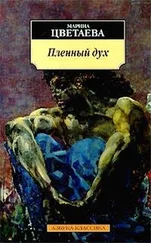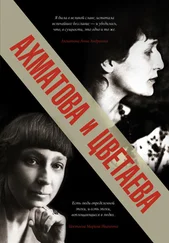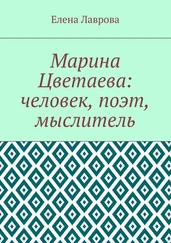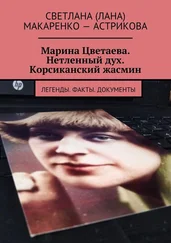Поскольку Марина Цветаева есть демиург собственного высокоразвитого мира, нам, прежде всего, хотелось бы знать, каковы её представления об искусстве и литературе, потому, что именно они помогали ей создавать собственную цивилизацию, именуемую художественный мир Цветаевой.
Аристотель называет задачей искусства подражание, т.е. способ познания природы. Они первым начал искать в искусстве пользу. Боэций замечает, что искусство не имело бы цены, если бы всё совершалось по необходимости. Это замечание Боэция долгое время оставалось без внимания. Идея подражания в искусстве держалась довольно-таки долго, несмотря даже на то, что И. Кант объявил, что гения следует полностью противополагать духу подражания. Г. В. Ф. Гегель назвал принцип подражания природе – ходячим представлением и раскритиковал его, указывая, что подражание природе в искусстве есть дело излишнее, так как природа и так уже существует. Кроме того, искусство, подражающее природе, всё равно отстаёт от неё, «…уподобляется червяку, который хочет поспеть за слоном». По Г. В. Ф. Гегелю принцип подражания природе носит формальный характер и поэтому, когда искусство превращает его в цель, в нём совершенно исчезает само объективно прекрасное. К ходячим представлениям в искусстве Г. В. Ф. Гегель относит также волнение души, будто бы целью искусства является пробуждение в людях всевозможных страстей, склонностей и чувств, будто бы искусство должно доставить человеку и созерцанию наслаждение. Сущность этого представления сводится либо к пользе, либо к эстетству. Искусство при таком подходе к нему является как бы пустой формой для любого содержания и материала. Среди ходячих представлений об искусстве Г. В. Ф. Гегель называет также: смягчение нравов, очищение страстей, назидание. Все эти представления сводятся к поиску пользы в искусстве. К сожалению, ходячие представления об искусстве оказались весьма живучи. В XX веке борьбу с ними пришлось вести М. Цветаевой. Высшей субстанциальной целью искусства Г. В. Ф. Гегель считает раскрытие истины в чувственной форме. Конечную цель, заключает Гегель, искусство имеет в самом себе, в этом изображении и раскрытии. И. Тэн так же скептически, как и Г. В. Ф. Гегель, относится к идее подражания искусства – природе. Он ехидно замечает, что если верно, что буквальное подражание есть конечная цель искусства, то лучшей трагедией, драмой и комедией будут стенографические отчёты об уголовных процессах. После Г. В. Ф. Гегеля новое понимание целей искусства дали Вл. Соловьёв и Н. Бердяев. Вл. Соловьёв указывал на то, что духовный свет абсолютного идеала, преломлённый воображением художника, озаряет тёмную человеческую действительность, но нисколько не изменяет её сущности. Красота в природе распределена неравномерно, например, для растений красота есть достигнутая цель, ибо в растении воплощено небесное начало. Красота для животных не есть достигнутая цель, ибо основа тела животного безобразна и это побуждает космического творца прикрывать и приукрашивать её. Красоты нет и в мёртвой материи, ибо ею не овладели свет и жизнь. Таким образом, по Вл. Соловьёву, человек производит новую прекрасную действительность, т.е. искусство, которого нет в природе, и которое – выше природы. Искусство призвано преображать действительность, и в этом его назначение и смысл. Есть, между тем, мнение, что иерархическое противопоставление природы и искусства неправомерно. Мнение это принадлежит В. Ф. Одоевскому, который полагал, что искусство не может подражать природе. В. Ф. Одоевский соглашался скорее с тем, что природа должна подражать искусству, но, в конце концов, приходит к тому, что, ни одно мнение не верно. В. Ф. Одоевский уверен, что, подражая природе или описывая её, художник будет описывать раздроблённые члены, или лишь занавеску, а не то, что составляет главное свойство природы – целость, полноту. Такая целость может быть лишь в искусстве, когда люди на него смотрят, как на особенный мир, имеющий свои особенные свойства и законы, а законы эти совершенно противоположны природе.
Вл. Соловёв указывал на то, что, связь, существующая между природой и искусством, гораздо глубже, чем это принято воображать, она состоит не в повторении, а в продолжении божественного дела, которое начато природой. Искусство, по Соловьёву, есть дело пророческое: «…существующее ныне искусство, в величайших своих произведениях, схватывая проблески вечной красоты в нашей текучей действительности и продолжая их далее, предваряют, дают, предощущают нездешнюю, грядущую для нас действительность и служит, таким образом, переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. Понимаемое таким образом искусство перестаёт быть пустой забавой и становится делом важным. <���…> в смысле вдохновенного
Читать дальше