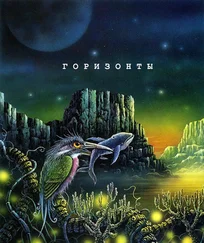Да, зайдёшь к ней, вот такими разговорами она постарается отвлечь тебя от других дел. А после прочтения старых писем Бадука, иногда она просит ещё остаться у ней ночевать. А ночью сквозь сон слышишь её постоянные бормотания. Лежит ли она у тёплой печки, или чуть свет сидит на молитвенном ковре, она шепчет-нашёптывает: «О Аллах, дай моим сыновьям здоровья и благополучия. Дай здоровья всем моим добрым соседам, воюющим сейчас с врагами нашими…» Но чаще всего она упоминает младшего сыночка: «Бадыгуллам, сынок мой, на кого же ты покинул меня?! Малыми крошечками вы остались у меня без отца. Подрастали вы, а я радовалась, что не одна я, не одна… Где же вы теперь?.. Все вы покинули меня… Горе, горе мне!.. Холодно мне… И вам, наверное, холодно в тонких шинелишках… Холодно мне, будто снегом так и сыплет, сыплет на грудь… Ай Аллам!..» А иногда начинает быстро-быстро что-то бормотать, потом слышится суеверное «Тьфу, тьфу!..» – как будто Хубджамал-эби заговаривает кого-то от пули, от бомб, от нечистой силы…
Насилу выдержала она последнюю военную зиму. Всё время жаловалась, что в груди у неё колет, дышать невмоготу. И зябко было ей и у себя возле печки, и у нас возле горячего самовара. А порадоваться по случаю победы ей было не суждено. Извещение о героической смерти очень любимого ею младшего сына, грудью защитившего своего командира от вражеской пули, так же не застало её. В весеннюю солнечную пору Хубджамал-эби вдруг не стало. Будто стаяла жизнь её, как мягкий апрельский снежок.
Великое, всенародное торжество пришло чуть позже. Помню, в то майское утро сначала неожиданно выпал ярко-белый запоздалый снег. Сакина-апа, дежурившая в эту ночь в сельском совете, чуть свет заметалась от дома к дому, оставляя на снегу следы стёртых галош и одаривая всех радостью:
– Пабида! Пабида! – кричала она в одно окно и сразу же бежала к дому напротив, чтобы успеть сообщить всем эту радость.
Мы тоже выбежали на улицу и, сверкая покрасневшими пятками, мчались к родным и близким.
Только к дому Хубджамал-эби никто уже не подбегал, не кричал ей в окно это волшебное слово «победа». А память Бадука – самодельные дубовые лыжи ещё долго оставались у меня. Даже уезжая после ФЗО насовсем в город, я взял их с собой.
Выслушав меня, Шагиахмет-абзый добавляет:
– Да, паря, трудностей вынесено – не пересказать. А ведь мы с твоим отцом вместе на войну уезжали, на его полуторке. На второй же день с начала войны. Помню, ехали как на сабантуй. В кузове машины полно было мужиков. Учитель Хабиб всё время запевал этакие бодрящие, бравые песни. Многие из нас ему подпевали. Кто же думал тогда, что всё так надолго затянется? И Хабиб, и отец твой, и Бадыгулла остались кто где – одни недалеко, у Волги, другие на чужбине… Признаться, Бадыгуллу я смутно помню. Мальчишкой он был, когда мы уезжали воевать… Увидел бы тебя сейчас отец, что подумал бы, а?..
– Когда погиб отец, ему ещё не было и полных тридцати четырёх лет, – говорю собеседнику. А в уме с удивлением замечаю себе: в этом году и мне исполнилось ровно столько же лет. Вот совпадение… Раньше как-то и не думал об этом. Отец мой погиб так давно. Тогда ещё и Бадук был рядом. Почти мальчишкой был…
Мы уже едем по гребню Очлытау. Скоро опять, но уже с близкого расстояния, покажется белосаманное Байтиряково. Сумка Шагиахмет-абзый, полная газет и мирных, радостных писем, лежит на свежем, приятно пахнущем сене. Во-он и первые дома и извилистые улочки села. В ней я жадно ищу приметы моих мальчишеских лет, обшариваю глазами родные места. Ищу сиротливый домик Хубджамал-эби. Живёт ли кто-либо в нём сейчас? Ищу дом Гульдамины за рекой.
– Гульдамина сейчас мать пятерых детей, – замечает Шагиахмет-абзый. – Правда, поздно вышла она замуж, всё не забывалась, видно, сердечная рана. А живут хорошо, слаженно. Муж у ней оказался добрым парнем, хоть и не из нашего села.
Да, Гульдамина теперь, наверное, и не вспоминает свою первую любовь. А может быть, всплывают иногда в её памяти ребяческие нетерпеливые ожидания чего-то важного. И может, бережёт она в душе образ своего семнадцатилетнего Бадука, не ставшего в её жизни Бадыгуллой.
Я тоже не могу себе представить его сорокалетним. Хотя сорок ему исполнилось бы ещё года через три-четыре… Я и сейчас будто вижу, как он лежит на отводе саней, на примятой соломе и тоскливо глядит на снежные дали, грустно, почти шёпотом выводя любимый свой куплетик: «Будь я бабочкой крылатой…»
Читать дальше