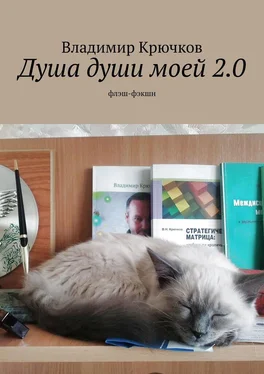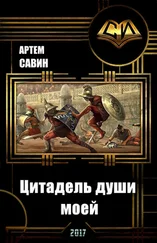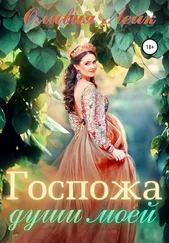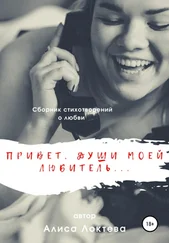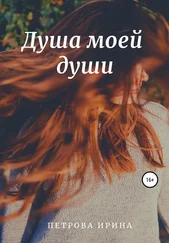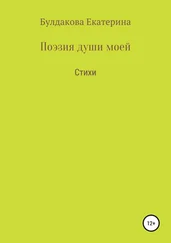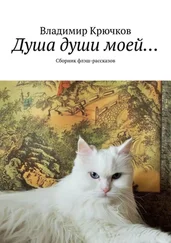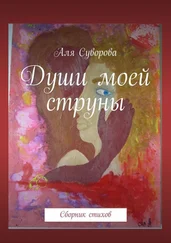Наша же, старательно заученная и линеаризованная до лозунга, мысль заключалась в том, что надо упорно долбить, долбить и долбить рекомендованные тексты, не очень-то задумываясь над их смыслом. Дело облегчалось тем, что смысл в них и не закладывался. Они представляли собой набор команд, идеально приспособленных для бездумного исполнения.
Кто бы объяснил мне это «на заре туманной юности».
Почему-то стало грустно.
Как-то давно в «ленинке» я заказал одно из первых изданий Винни-Пуха, напечатанных в Нью-Йорке в 1935 году. Начал неторопливо (в темпе моего знания английского языка – с перерывами на словарь Мюллера) перечитывать его, как вдруг обратил внимание, что Пятачок там упоминается как «she» – она. Вот так-так…
А ведь тогда вся трогательная дружба Винни-Пуха и Пятачка становится понятной и обретает смысл. Именно светлая дружба мальчика и девочки с оттенком легкого, необидного, покровительства со стороны мальчика. И тогда понятен эпизод с подарком букетика фиалок Пятачку и… Да все сразу становится на место.
Я запомнил свое открытие и как-то упомянул об этом в переписке с приятелем, который знал эту сказку наизусть. Он сразу поправил меня – никаких мальчиков-девочек – he и только he. Я бросился в «ленинку». За прошедшие годы издания 1935 года перекочевали в музей библиотеки и пришлось идти туда. Заказал. Получил. Открыл – he! Перепроверил – тот же результат. Может, я все сочинил и сам в это поверил? Перечитал воспоминания Кристофера Робина – в одном из писем он все же упоминает Пятачка, как she, но только в одном-единственном месте.
Я смирился с Пятачком-мальчиком, но в глубине души все же надеюсь, что уж Алан-то Милн прекрасно понимал, что такая трогательная дружба может быть только между мальчиком и девочкой. И писал именно о ней, какие бы местоимения он не употреблял при этом.
Платонова я открыл для себя несколько неожиданно. У моей мамы не было высшего образования, но был природный ум и природное же чутье на настоящие вещи. Как-то я увидел у нее сборник рассказов и повестей неизвестного мне писателя с простой фамилией. Мама читала его внимательно и с уважением. По молодости я отнес это к ее доверчивости к печатному слову и не обратил внимания на непритязательный серенький томик.
Потом, в херсонской областной библиотеке я увидел свежее издание избранного Андрея Платонова и чем-то этот томик привлек мое внимание. Полистав немного, я наткнулся на повесть «Джан» и не смог оторваться. Прочитав ее до конца, я проглотил оставшиеся повести и рассказы и долго не мог придти в себя. Передо мной открылась ранее неизвестная мне бездна другого русского языка, каждое слово в котором прочно сцеплялось с другим, поворачивалось непривычной гранью и от этого возникала вспышка понимания, порой ослепляющая неожиданностью и нескончаемой глубиной. Хотя все слова были знакомы – ни одного неологизма или редкого термина. Позже я прочитал у Бродского, что язык Платонова – это «язык тупика… бешеная философия сюрреализма». Не совсем согласен с ним, но то, что в тупик загнали самого Платонова, и это неизбежно повлияло на его язык, несомненно.
«Одухотворенные люди», «Девушка Роза» – я ничего похожего о войне раньше не читал. Там не было пафоса, люди действовали и говорили естественно, но небытийно, необыденно. Они говорили, подобно героям Древней Греции, для которых та Греция была не Древней, а их повседневной жизнью. Их хотелось слушать и понимать. Кстати, недавно я прочитал версию того, что повесть «Они сражались за Родину» Шолохову написал Андрей Платонов в качестве «литературного негра». После прочтения рассказов Платонова о войне я допускаю такую возможность.
Наиболее глубокое впечатление осталось от «Происхождения мастера» и «Епифанских шлюзов». Первая книга поразила выпуклостью и узнаваемостью образа русского мастерового, спокойно и вдумчиво постигающего окружающий мир. Он относится к нему как к разумному механизму, который надо понять и разобраться в его устройстве. А то, что он разумен и доступен пониманию, у Фомы Пухова не вызывает сомнения. Герой же «Епифанских шлюзов» – такой же мастеровой, только англичанин. Он спокойно и уверенно строит небывалую в России систему каналов и шлюзов, чтобы связать водными путями Дон и Оку. Судьбы у них разные, но даже трагический конец англичанина воспринимается им как естественный исход для этой варварской страны – она и не могла повести себя по-другому, таково ее устройство на данный момент.
Читать дальше