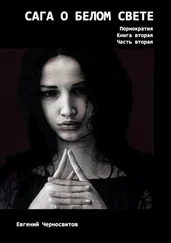И как только схлынывало время, отпущенное ему на суету, и свет потоплял то, что выходило из-под власти тумана, падающие лучи чем-то напоминали на льду выстил камыша. И думалось, через минуту или две впереди возникнет седловатая гора и интеллигентно-подначный возглас:
– Привет, сидельцы!
Так прозывались в ту пору, о которой он вспомнил, рыбаки подледного промысла.
– А вы, с изволения сказать, – воспоследует ответ, – за каким ляхом сюда приехали?
И ужаснет признанием, что сегодня клева нет.
А рядом с отцом-рыбаком мальчишка во всем казацком. И сабля еще заморская ко всем прочим припоясана.
Там, где летом разлужье, теперь пестро-белая ровнота. А чуть левее, где раньше лиловел пруд, теперь вечеряли обозники. Там пролегла дорога.
– Вроде чуть примякло при солнце, – говорит рыбак, – и снова, вишь, день студится предвечерней стынью.
Да и чувствовалось, что в самом деле морозило. Клейко смешало глаза.
– Ну как там в Москве? – извечный вопрос. – Жизнь хужеет, а пиджак – ужеет?
Второй кому-то рассказ ведет:
– Добришко кое-какое сбыл. Отвез выкуп.
Некогда дослушать, хоть и интересно. Вон как закурчавился куст от инея.
В стемневшем небе родился непонятный гул.
– А вот тут, – говорит первый рыбак, – почему-то растут только неедалые травы. Ни одна скотина их не жрет.
И указал, где именно.
У ног лежит листик, вырванный из книги. Прочитал первую строчку: «Уже в свои семнадцать Николай понял, что смерть – довольно серьезная неприятность. Потому жизнь и предстала скорбной обряжкой перед ним».
Ветер выхватил у него этот листок.
И вдруг обозники запели.
Во соломе то было, во соломушке,
Во ячменной, во ячменной да в ячневой,
Отзвенели да по кущам да соловушки.
Свои игры позакончив буерачные да брачные.
Михаил Сергеевич встряхнулся от воспоминаний, засобирался домой. Завтра новый день, новые печали, новая тоска.
Но это, слава богу, не сегодня. Как говорят на Ставрополье – не нынче. А ныне… нет, не сбирается вещий Олег «отмстить неразумным хозарам». Ныне надо еще пересказать все, что за день творилось, Раисе Максимовне, выслушать ее умозаключения и потом отойти ко сну. И проспать без сновидений, потому как мщения, как он давно понял, тоже отнимают силы.
Оутс давно понял, что неограниченное доверие до добра не доведет. Потому своему новому посреднику Алекси Соммеру – человеку тяжелому в общении, превращавшему час актуальной информации в бесконечную трепотню, сказал:
– Я не признаю абсолютных правил, но очень хотел бы иметь гарантии общей приемлемости. Чтобы знать, что же в концов от меня нужно.
А тот опять начинал приводить пустопорожние примеры:
– Вот мы берем на два года в долг. Значит…
– Давайте не вдаваться в подробности теории, – перебил его Дэвид, – скажите, как я могу нехитрым способом, не используя жесткие материалы, добиться уготованной им роли?
– Но ведь речь идет о чести народа! – вскричал Соммер.
– Совершенно верно. Потому я и хочу, чтобы открывающаяся перспектива не превращалась в мышеловку для нас. Сейчас надо как можно дальше развести таких противоборцев, как Горбачев и Ельцин. Потому что их час смертельного соперничества еще не наступил.
– Но с меня требуют совсем другого! – вскричал Алекси.
С тех пор как Хог был переведен на другое место, Оутса вдруг перестали вызывать на совещания и инструктаж. Это все передоверили Алекси Соммеру. И разу же стали твориться преинтереснейшие вещи. Проверка собственной безопасности показала, что сейчас он как никогда уязвим. Его однажды чуть не силой затянули на собрание безбожного общества, которое вроде бы благословил сам папа римский Иоанн Павел Второй.
Причем устроители явно намекали, что ему выказывают честь. И когда Оутс рассказал обо всем этом Соммеру, он, смеясь, сказал:
– Не докатывайтесь до ложной значительности. Ибо всем известно, что главный американский миф – супериндивидуализм.
– То есть эгоизм?
Рыжий живчик ушел от ответа.
Проникающий повсюду на правах советника посольства, он лучше, чем ожидалось, был осведомлен в вопросах только еще подлежащих обмену мнениями. И, являясь полной противоположностью Майка Харга, постоянно утверждал, что уважает волю того народа, который раскрылся перед ним, не упрятывая свою негреховную память.
Въедливо выступающий, он любил вспоминать первые соприкосновения русских и американцев – это фестиваль пятьдесят седьмого года, на котором он, тогда еще совсем юнец, якобы был. И смаковал общую для всех деталь, так сказать, жизненные, а потому и неизбежные последствия.
Читать дальше