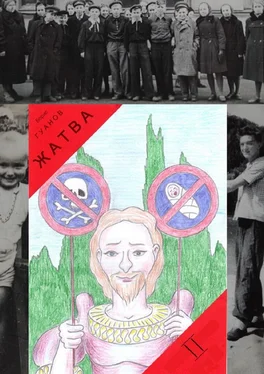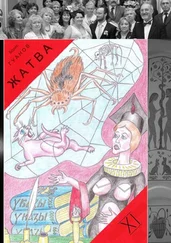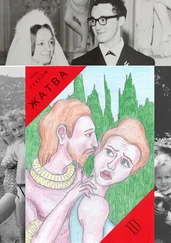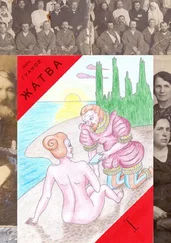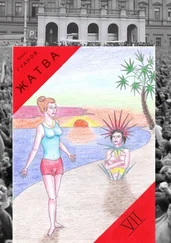Наша новая «семейная» коммунальная квартира была в корпусе, выходящем торцом на Фонтанку. Она состояла из двух больших комнат площадью 30 и 25 квадратных метров. Семья Кыки заняла большую комнату: у них появилась ещё одна дочка – Ирка, – а мы вчетвером разместились на 25 метрах. Двери комнат выходили на длинный коридор с вечно мокрой от конденсата стенкой, граничащей с улицей. Была общая кухня с четырёхкомфорочной газовой плитой и раковиной с краном холодной воды, маленький туалет и прихожая.
В нашей комнате с двумя окнами родители отгородили себе спаленку с помощью платяного и книжного шкафов, я спал на раскладном кресле, а бабушка на диване. В комнате была круглая «голландская» печка, а из мебели – круглый обеденный стол, над которым висел матерчатый красный абажур с бахромой, письменный стол и несколько венских гнутых стульев. Рос большой фикус и лимонное дерево, но без лимонов. Пили так называемый «гриб», плавающий в банке, стоявшей на круглом столе. На письменном столе стоял довоенный немецкий радиоприемник фирмы «Телефункен». Папа, хоть и коммунист, ловил «голоса» из-за бугра. Позже появился телевизор «КВН-49» с водяной линзой.
Стирала бабушка в общественной прачечной в корпусе напротив. Посуду она часто мыла холодной водой прямо из-под крана даже зимой. После этого руки у неё были красные, как клешни у варёного рака. На углу Фонтанки и Лермонтовского проспекта была баня, куда по субботам выстраивались длинные очереди мужчин и женщин.
Тогда у всех был только один выходной день в неделю – воскресенье. По воскресеньям родители и я отсыпались часов до двенадцати, а потом обычно устраивали генеральную уборку, мама мыла дощатые крашеные полы тряпкой на четвереньках или, как тогда говорили, на карачках.
Рядом с баней огромную площадь занимали дровяные сараи, но не каменные, как на Гороховой, а кое-как сбитые из бросовых досок и ржавого железа. В лабиринтах между сараями и по крышам этих сараев бегала местная детвора, в том числе и я. У нас там тоже был сарайчик, а у Кыки от деда остались два сарая в подвалах гознаковских корпусов. Однажды при мне он стал чинить электропроводку в сарае, и оголенные концы провода под напряжением 380 вольт воткнулись в его руку, он страшно заорал. Хорошо, что он смог откинуть провод в сторону. А я остолбенел от страха.
Со второго полугодия первого класса и весь второй класс я учился в школе №286 между восьмой и девятой Красноармейскими улицами. Помню свою учительницу Марию Семёновну, молодую брюнетку с высокой прической. Полюбуйтесь, на фото – наш I «б» класс, одни мальчишки. Я – на почётном месте справа от Марии Семёновны, потому что сразу стал круглым отличником, даже четвёрка была для меня провалом. У меня сохранились приказы по школе с объявлением благодарности с занесением в личное дело (как звучит!). Тексты – в ШКОЛЬНЫХ ПОДРОБНОСТЯХ 1. (1) и (2).
Самым трудным предметом было чистописание. Писали перьевыми ручками (чернила – в чернильницах-невыливайках) в тетрадях в косую линейку, где размер и наклон букв был уже задан. Прописи служили образцом написания прекрасных букв с завитушками и нажимом. Любое отступление от прописей, а тем более кляксы и подчистки, карались снижением оценки или отметки, как тогда говорили. Поэтому мама заставляла меня иногда переписывать по нескольку раз целые тетрадные листы, если я допускал какие-нибудь погрешности при выполнении домашнего задания. Испорченные листы изымались из тетради, а чистые вставлялись, и всё, что было на испорченных листах, переписывалось по новой. Так меня приучили брать наивысшую планку в учёбе и вообще во всём.
5 марта 1953 года умер Сталин. В школе Мария Семёновна плакала. Меня как отличника поставили в почетный караул у знамени, обшитого чёрной лентой. Всё время транслировали траурную музыку из всех громкоговорителей. Чувствовалось, что вся страна оцепенела от страха – что же теперь будет? А был Берия – английский шпион – в расход. Было дело врачей-убийц. Была антипартийная группа – Булганин, Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов – чао-какао. Наконец, новый царь-батюшка – Никита. Все эти битвы гремели где-то в высших эмпиреях, народ молчал, как мышка в норке.
В 1954 году после окончания второго класса на дачу мы поехали уже в Рощино. Видимо, после пережитого в Петергофе мама решила сменить место. Домик, где мы снимали уж не помню что, стоял прямо у плотины с водяной мельницей на истоке речки из озера. Хозяев я начисто забыл, а вот белого пса-дворнягу по кличке Тобик помню.
Читать дальше