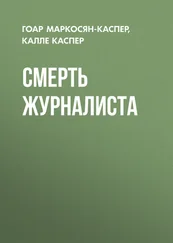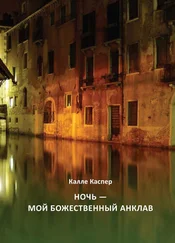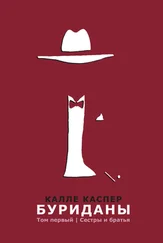В Эстонии, чтобы покончить с этой темой, все не так, как в Армении – там женщины стараются нравиться мужчинам, а у нас наоборот. И если ты НЕ стараешься женщинам понравиться, то они отодвигают тебя на обочину жизни, так как все рычаги в их руках. В молодости, когда я действовал интуитивно, я вовсю старался быть им по душе – и достигал успеха. А потом, когда я стал присматриваться к женщинам – в смысле к эстонкам, беспристрастно, я их разлюбил, этих принцесс, ждущих – нет, не принца на белом коне, а камердинера, и все у меня пошло прахом.
Когда я встретил Рипсик, я понял, что не все женщины такие, что, кроме эстонок, есть и другие, такие, для которых мужчина – опора. Я с трудом вжился в свою новую роль, но вжился, и стал защищать Рипсик так рьяно, что эстонки меня возненавидели. Но об этом я уже писал.
И вот, когда Рипсик не стало, я снова столкнулся со смертью, но уже с другой стороны – она стала меня притягивать. Я не хотел жить без Рипсик, сама мысль о подобном существовании казалась мне противной – но надлежало завершить кое-какие работы, исполнить данные ей обещания. Немного помучившись, я принял решение, быстро все сделать, а затем умереть. Составил список, вернее, даже два списка, один для сочинений, другой для прочих дел, и наметил день смерти. Он был еще относительно далеко, но, с другой стороны, и не то чтобы очень.
2
После того, как я определился с датой смерти, мне сразу стало легче. До этого меня разрывали противоречивые чувства, с одной стороны, мне хотелось немедленно умереть, с другой, как человек ответственный, я не хотел забросить то, что обещал сделать. Жил я тогда в Ферраре, страдал бессонницей, а когда засыпал, видел жуткие сны. Рипсик мне приснилась только трижды, в первый раз плачущей, в другой – беременной, а в третий – как большое цветное фото, которое немедленно расплылось. Особенно тревожил меня третий сон, мне казалось, что в нем скрыт какой-то тайный смысл, что, дескать, до этого момента она, в каком-то виде, существовала, но сейчас перестала. Все это терзало меня страшно, несколько раз я был близок к тому, чтобы выброситься из окна, оно выходило на относительно тихую улицу, по которой, однако, дважды в день проходили толпы школьников, направляющихся в близлежащую школу, и возвращающихся оттуда. Их грубые (подростки!) голоса, громкий смех раздражали меня, доводили до исступления, но выброситься я все-таки не выбросился, просто потому, что квартира находилась на втором этаже и вероятнее всего, я сломал бы ногу или позвоночник, но не убился. Теперь проблема – не школьников, а противоречивых чувств – разрешилась, срока, который я себе отвел, должно было хватить, как минимум, на обещания, может, и на сочинения, при условии, что я не буду благоденствовать на руинах своей жизни, а работать, работать и работать. И я набросился на компьютер с таким отчаянием, что он только визжал, но сопротивляться, то есть, испортиться, не смел. Я и раньше, пока Рипсик была со мной, трудился каждый день, но тогда я это делал спокойно – мы жили счастливо, и это счастье перекинулось на творчество. Да, нас недолюбливали, потому что мы всегда писали то, что думали, а думали мы иначе, чем большинство и эстонцев, и русских, и даже евреев и армян, но нас это не очень тревожило – ведь мы были хоть и одни, но вдвоем, мы всегда поддерживали друг друга и только пожимали плечами, когда кто-то в очередной раз нас не понимал; достаточно, что мы понимаем друг друга. А теперь я остался один и отчетливо почувствовал враждебность мира, в котором я не то что чужой – лишний. И зачем тогда жить? Точный срок – вот лазейка, которая спасала от отчаяния. Бесконечно страдать немыслимо, до определенной точки – возможно. Когда-то я волновался из-за каждой мелочи, переживал за судьбу Эстонии, негодовал, что мои соотечественники притесняют русских, которые им ничего плохого не сделали – если уж кого-то винить в наших несчастьях, то грузин, и то в единственном числе – а теперь это перестало меня тревожить. Притесняют, так притесняют, всегда кто-то кого-то притеснял, притесняет и будет притеснять, закон природы, нет роста без агрессии, нас ведь тоже притесняли, заставляли жить не по нашим понятиям, то насильно крестили, то сгоняли на октябрьскую демонстрацию, и что нам оставалось, подчинялись, хотя на самом деле хотели сидеть у себя на хуторе и слушать, как птички поют, мы ведь, как я писал, аграрная нация, даже Таллин, любимый город советских туристов, не мы построили, а немцы, бароны, плюс там шведы всякие, датчане, но не мы. Мы – хуторяне. Только сейчас урбанизировались, многоэтажные дома стали возводить, плохо, конечно, нет традиций, кроме деревянной архитектуры, но ныне весь мир безобразно строит, красиво не позволяют материалы, вот и мы испоганили Таллин, раньше мне это причиняло боль, а теперь я успокоился – ну что я против этого могу? От меня тут ничего не зависит. Перед смертью многие вещи перестают трогать. Лишь одно я забыть никак не мог, судьбу Европы, за нее мы с Рипсик переживали больше всего, не из-за европейцев, а, трафаретно выражаясь, творческого наследия предков. Перебьют пару миллионов, не беда, людям так и так умереть на роду написано, но если уничтожат скульптуры на площади Синьории, сровняют с землей капеллу Медичи, подожгут Уффици и Сикстинскую капеллу, разбомбят в пух и прах Венецию – это намного страшнее. Люди родятся новые, а великие произведения искусства восстановить невозможно. А если еще снесут оперные театры, предадут огню ноты – как когда-то уничтожили древние рукописи? Об этом я не переставал думать, даже будучи уверен, что сам скоро умру.
Читать дальше