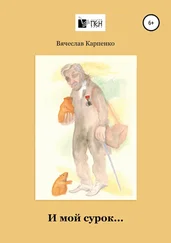Хотя частенько в детстве, да и позже нередко, приходилось ему кулаками добиваться к себе почтения хоть внешнего, которое голосок его смазывал в момент, несмотря на отпущенную природой стать. Что к чему было придано или недодано при рождении – то ли сила к писку, чтобы не падал духом, то ли голосишко к могучести и мужественности, чтобы не заносился высоко?.. – неясно, только Большой Иван всю осознанную жизнь томился таким разновесьем в себе, хоть и приучил себя даже и подсмеиваться над странной прихотью своего создания. Нынче же ему не до шуток, он снова пробует крепость столешницы кулаком в такт собственным мыслям.
– Та-ак-с-так…
– Да, пора бы сбираться, Иван, – от низкого рокотного баса щуплого попика заколебался огонек свечки у образа.
Женщина перевела веселые глаза с одного на другого. «Поменяться бы им… надо же!» – в который раз подумала, но теперь промолчала и удержала улыбку.
– Так будешь ты торговать, купец? – продолжал басить попик. – Смотри… и времени уж нет, а они все лето здесь… чуть от той зимы оклемались… жалуются мне. И верно – не по-божески, Иван, они теперь до других и не доберутся, зима вот-вот. Ты один здесь, вон уж сколько лет только тебя и знают… а у них шкурок-то много собрано… и на храм жертвовали. Чистые ведь дети! – отец Варсонофий пнул ногой мешок, который лежал под лавкой у его ног. – Дался тебе Сэдюк…
– Тебе не мешаю их крестить, вот и ты не лезь… жди, раз увяз со мной, отец наш преподобный! Сам знаю: туго им без пороха, и к муке попривыкли…
– И к водке, Иван, и к водке ты их приучил… – отец Варсонофий ткнул укоризненно пальцем в стакан, стоящий перед ним и налитый вполовину, для убедительности махнул из стакана в рот. – Ф-фу…
– Не я… а привыкли, да – к соли, к чаю, к табаку – для того я и купец… а пушнину… тьфу, возьму, куда денется, не до мехов, – Бровин говорил почти шепотом, чтобы потяжелить голос.
– И не до грехов, вижу…
– Ну, грехи тебе считать. Должны они мне все, вот! И не простой тот оброк… – он поднимается на ноги, головой почти под потолочные плахи – Большой Иван, глухое раздражение еще бродит в нем, но попик скорее успокаивает его – потому и берет с собой. Да и тунгусы…
– Ты вот что, Любаша… со мной пойдешь, – он взглянул на сноху. – Раз уж так… Да-а, подбери там в корзинку – чаю, сластей там, бутылку, табак. И… пороху пускай Еремей мешочек положит, со свинцом тоже. Давай, пока не тёмно.
– К Сэдюку? – спросил священик.
– Ты пей свои чаи, отче. Водки пока добавь. Или кагору? Без тебя схожу…
Купец выходит на широкое крыльцо. Здесь, свесив ноги с помоста из широких досок, на сваях же примкнувшего к лабазу по всей длине, два молодых работника. Они замолчали, увидев хозяина. Третий рядом ловко колол на широком пне напиленные горкой чурки. Этот – крепкий хлыстоватый мужик с разбойной рожей и цыганскими услужливыми глазами. Его и подзывает к себе Бровин.
– Знаешь… – купец обвел глазами знакомую долину.
Чумов пятнадцать сгрудились у кромки леса поближе к реке; несколько стояло поодаль, среди них можно различить и большие шалаши, крытые берестой, навесы, поднятые шестами. Вились дымки над чумами, еще видные в подкрадывающемся вечере, бледным же казался и огонь у нескольких костров под навесами, возле которых сидели люди. Купец знал, что все они сейчас смотрят на него. И ждут. Давно ждут, с конца прошлой зимы которые…
На сходном к реке берегу лежат две большие плоскодонные лодки-шитики [1] Шитик – крытая большая лодка (сиб.)
, широкие и поместительные, как баржи. Они проверены уже, прошпаклеваны и осмолены. Пора плыть, пора – прав Варсонофий, гляди, зазимовать недолго, вот шуга пойдет по воде. Всё – три дня последние, думает он, если только… если!
– Вас у Сэдюка искать прикажете-с? – прерывает его мысли приказчик, тяжелый колун на длинной рукояти он опустил почти до земли.
– Там. Только искать меня ни к чему, – купец помолчал, повел глазами по легко свисающему в руке колуну. – Ловко орудуешь… ты вот что, Игнат, иди к Еремею – можете торговать. Спирт разбавьте, сгорит еще кто… И каждому инородцу долги напомните, трезвому еще. Торгуйте. Чай, табак, безделицу бабскую, материю… ну, в общем, Еремей знает. По-прежнему никому – ни пороха со свинцом, ни муки, ни соли… посмотрим там. Давно им на охоту бы разойтись, пусть старый думает!..
– Вот и я! Всего набрала, – выходит на крыльцо сноха.
Она одета в песцовую короткую дошку с капюшоном, серо-голубой мех которого так мягко охватывает ее лицо с пламенеющими влажными губами, так оттеняет серые же глаза с тяжелыми ресницами, что Бровин только крякает и опять думает – напрасно, мол, взял с собой Любаву. Приказчик Игнат прикрывает замаслившиеся глаза, не столько завидуя, сколько одобряя хозяина – Игнат, как и все домочадцы купца, уверен, что Иван Кузьмич давно спит со своей сношенькой, иначе зачем бы и таскать с собой в такую даль; уверен и потому улещивает Любовь Васильевну без намека на мужские свои претензии. Хотя иногда – для своей утехи – и старается представить, как возвратится с войны сынок хозяйский и какая тогда начнется забава в доме…
Читать дальше



![Татьяна Степанова - Последняя истина, последняя страсть [litres]](/books/393351/tatyana-stepanova-poslednyaya-istina-poslednyaya-stra-thumb.webp)