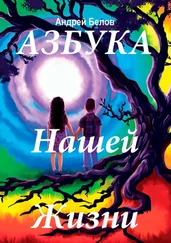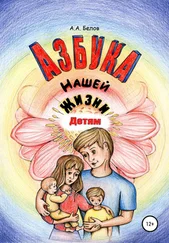Где-то через неделю заявился Фофель. Дома я был один, он и припёрся.
– Ну, как ты? Больно?
Отводил глаза, даже сторонился как-то. Хотел ещё что-то сказать, но не находил слов, стоял, покачиваясь из стороны в сторону.
– Терпимо. Ты-то чего нюни развесил? Зачем про север рассказал?
Фофель потоптался по комнате, повздыхал. Присел на край дивана, потрогав при этом торчащую пружину, и вдруг выдал:
– Я тебе завидую!
– Чего-о?
– Да, вот, завидую и всё. Ты чувствуешь твёрдую отцовскую руку. Хоть он и не родной, а всё ж не даст скатиться по …. Вообщем, скатиться.
– Это ты у бабки наслушался?
– А что, не правда? Вот, надо мной нет такой руки, могу и скатиться….
Меня эти его бредни так и взбесили. Я уже неделю на жопу сесть не могу, а ему завидно! Скатиться….
– Сейчас, организуем тебе твёрдую руку. Только, чур, – не жалуйся потом.
Я вытащил из кармана скрученный в кольцо ремешок, развернул его. Сложив вдвое, ловко захлестнул конец на запястье. Фофель, предчувствуя недоброе, с ногами подобрался на диван, выставил вперёд руки. Губы у него мелко задрожали.
Я порол его нисколько не усерднее, чем стул. Но, стул деревянный. Его когда лупишь, он не орёт, не выворачивается.
Фофель же, орал так, что соседи с первого этажа повыскакивали на улицу и заглядывали в наши окна. Испуганно показывали на эти окна друг другу. Вертелся Фофель под моим ремнём, как тот таракан на сковородке, которого я однажды живьём зажарил. Вертелся и орал!
А дело тогда было так. Я заскочил на кухню, в надежде разжиться чем-нибудь вкусненьким. Но там никого не было. Глянув по столам, сразу заметил, что в нашей сковородке сидят несколько здоровых тараканов, и жрут наш маргарин, который остался на донышке, после того, как мамка утром жарила картошку. Сволочи! Вообще-то я всегда подтираю, подлизываю сковородку кусочком хлеба, а в этот раз как-то упустил.
Я схватил сковородку и сунул её на плитку, включил. Они, стали быстро разбегаться во все стороны. Я лихорадочно пихал их обратно, но они, – хитрые гады, разбегались в разные стороны. Просто невозможно уследить за всеми сразу. И плитка так долго нагревается.
Наконец, остался лишь один таракан, который не успел смыться. Я его отпихивал на серёдку, он поскальзывался на маргарине, который уже расплавился, и снова бежал к краю.
В конце концов, он начал уже обжигать лапы, – подпрыгивал, потом перевернувшись, падал на спину, снова соскакивал и начинал пританцовывать. И вот, упал, и больше не поднялся. Я ещё его поджарил, и выключил плитку. Было весело.
Вот и Фофель, теперь, подпрыгивал, после каждого удара, переворачивался, корчился, снова падал, и орал. Орал! Штаны у него стали мокрыми, и диван тоже. Меня ещё больше это разозлило, и я порол и порол его без устали. Остановился лишь тогда, когда он совсем затих и перестал сопротивляться, а в дверь так тарабанили, что она могла и не выдержать натиска.
Уже потом, много позже, я понял, что мне нравилась эта экзекуция. Нравилось пороть, и видеть, как ему больно. Я чувствовал себя отчимом.
С тех пор у меня не стало друга Фофеля. Бабка никогда больше не показывала мне страшный клык, – не улыбалась. В милиции, куда она написала заявление, мне оформили первый привод, заставили подписать какую-то бумагу, и отпустили.
Через год я снова убежал искать отца.
Глухая, холодная осень с силой хлопала входной дверью подъезда, не жалея своих ветреных порывов. Даже просто во двор не хотелось выходить, но очередной скандал с родителями принудил меня к действию. Уехал я довольно далеко, потому, что две ночи провёл в товарном вагоне. Замерзал страшно. А ещё, постоянно хотелось есть. На этом и погорел.
На какой-то станции, на перроне, подошёл к ларьку. Хотел выпросить что-нибудь, или стырить. А не додумался, что в углярке две ночи ехал, – только зубы, да глаза. За мой такой вид изловили меня и вернули домой. Снова в милиции составляли протокол. Снова отчим порол, пока не устал.
В столе, в ящике, лежали три ложки, две вилки с кривыми и даже отломанными зубами и нож. Нож был совсем старый, с выточенной серединой. От этого он казался горбатым и совсем не страшным. Как я не сжимал его в руке, как не замахивался, ни страха, ни злости не появлялось. Пришлось отложить казнь отчима на более позднее время, пока не найдётся более подходящий нож. Не резать же его без злости. Подожду. Но казню, обязательно. Это стало моей навязчивой идеей. Я развивал и лелеял эту мечту, наслаждался самой мыслью о том, что я зарежу отчима. Мне было приятно. Немного пугало то, что он стал часто болеть, что-то там у него внутри.
Читать дальше