От увлечения до исполнения – три.
Два шага в сторону – побег от действительности.
Когда Толстой писал свою Анну, так не похожую на реальную, та спокойно принимала себе хвойный душ.
Она любила подшутить над нескромными ангелами: крупные капли падали отцу Гагарина на шляпу и за шиворот Келдышу.
– Елки зеленые! – ангелы не могли крепче.
Была пора и было время (время вообще).
Свою Анну Толстой ставил перед фактом, но Анна реальная подставляться под факт не имела желания.
Вечером пришла охтенка, принесла жирного молока и сливок.
Молоко текло неприметно и словно бы само собою, как время; шло к маслу. Из масла, охтенка объяснила, можно сделать барана.
– Баран из масла может наделать дел на скатерти, – охтенка предупредила.
Анна смеялась: магнетизм воли.
Ей было интересно, чего там понаписал Толстой: оказывается, к каждому поезду нужно выезжать: ни больше ни меньше!
Когда Анна приезжала, кто-нибудь непременно выходил из вагона: звонящий, например, в часах.
Женщину в помятой кофточке он принимал за Анну Каренину – сама же Анна, укрывшись за фонарным столбом, наблюдала и слушала.
– Ты не из молоденьких, Анна, – говорил звонящий в часах женщине в помятой кофточке, – тебе, почитай, полтораста лет!
– Ну, ты вообще, – не знала женщина, что ответить.
Каренина, возвратившись домой, всякий раз приказывала вынести из квартиры всю лишнюю мебель, придававшую комнатам библиотечный характер, но мебель неизменно возвращалась на прежние места.
С кроватью, впрочем, было понятно, с буфетом, отчасти, тоже.
– Чья это работа? – Анна допрашивала Ибсена, но манекен только опускал большие веки.
Наверно Анне было известно, что сие – проделки Кокорева, но ситуация была игровая: Кокорев якобы грозил ей какими-то векселями – она же голосом старалась изобразить, какая это гадость.
Библиотечный характер комнат делал Анну похожей на бумажную: буфет легко было превратить в книжный шкаф.
Если же книжный шкаф превращался в платяной – внутри, на полке, скомканная, оказывалась некая кофточка с огромным бантом.
Анна смотрела на диван, подозревая пятна; по обеим сторонам дивана, на палисандровых тумбах горели бронзовые лампы, их свет умерялся матовыми шарами.
Стол был невелик – Анна не помещалась на нем вся; скатерть спускалась так, что лежала на коленях у всех сидевших.
Анна забиралась поглубже в кресло, откатывалась в тень и начинала —
Она шлифовала ногти замшевым полиссуаром и пудрой.
Глава седьмая. Знак жизни
Была пора, и было время.
Пора принять душ, изготовить барана, вынести мебель.
Время приехать к поезду, подновить сердцеграмму, завязать интригу.
«Эмблематические фигуры» – достаточно обозначить их так, и о прочем догадаешься сам.
Они ходили по кругу на башне часов, с мелодическим звоном.
И Анна догадывалась —
Бог держит знак жизни у носа царя – царь прочищает ноздри и ему пахнет яблоками; демон свободы и правды – что держит он возле ушей царицы?!
Отец (Пушкин) когда-то танцевал с царицей на зеркальном паркете Зимнего, и в детской аудитории до сих пор и до сего времени живет легенда относительно того, как все выглядело.
Отец и царица давно сами ушли в паркет, но, если им создавали условия, могли перебраться на стену и прыгали там, удлиняясь и растягивая себя.
Шторы на окнах расписаны были красными и синими Келдышами; лепные потолки представляли летящего в голубом пространстве пухлого отца Гагарина: Анна мирилась.
Через Алабина у нее была связь с бесконечностью, и бесконечно она могла повторять за кем-то, что вера – это кредит , а за гробом нас ждет «великое может быть».
Мичурин находил, что у нее вкусный рот, но Анна ни за что не отвечала. Она лишь ощущала, ждала, размышляла, и Иван Владимирович, приезжая, только понапрасну тревожил ее густым яблочным духом.
Бог ли изгонит из нее демонов или они прогонят Бога?! – Этот вопрос для себя решал Толстой, но какую-то Анну следовало назвать иначе.
Он не желал и мало того: еще нескольких запавших ему дам крестил Аннами: им выдан был долгосрочный кредит доверия: хочешь – лежи на кровати, не хочешь – сиди в кресле или стой за шкафом.
Именно за зеркальным шкафом, хотел он думать, Анну ждет, может быть, —
Куда бы он ни приходил – везде преобладали Анны: празднично они беседовали, грациозно посмеивались; корсажи у иных обтянуты были стальными сетками и горели, как кирасы акробатов. Ему мелькали вдруг хрустальные талии. На плече полной Анны в темно-лиловом платье дрожал красный бант. Позже комнаты наполнились чем-то вроде облачков, полупрозрачных и бликующих, и только, как сквозь призму, можно было различить уже вдали: все Анны – графинчики!
Читать дальше
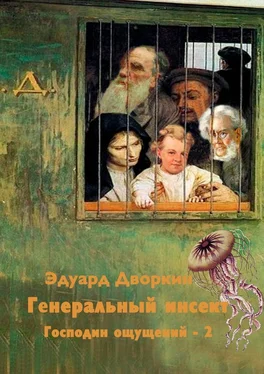






![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)
