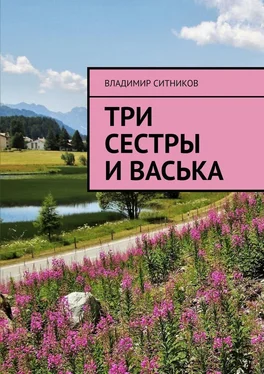Говорят, что я старуха,
Только мне не верится.
Да какая я старуха —
Всё во мне шевелится, – басила Дарья и добавляла:
Ух, ух, люблю двух,
А гляжу – одна лежу.
Пошла плясать, юбка съехала на задь,
Дайте гасник подвязать,
Дак я опять пойду плясать.
Усердно топая, объёмистая, круглобокая расталкивала Дарья товарок:
– Шевелитесь, девки. Не спать пришли. Там успеем выспаться-то.
– Давайте долгую, волокнистую споём, – предлагала помолодевшая от пляски, раскрасневшаяся бабушка Луша и высоким голосом заводила:
Тихо в поле, в поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман.
Там лежит, лежит в земле зарытый,
Там схоронен красный партизан.
Волокнистыми называли такие песни оттого, что как льняное волокно, тянулись они долго.
– Ой, Василисушка, спасибо. От души напелися, – благодарила её высокая костистая тётка Дуня Косая, – играй нам почаще.
Остальные тоже наперебой хвалили гармонистку за то, что скрасила день.
Нравилось Ваське в Зачернушке. Здесь всё было какое-то ласковое, понятное, доброе. Когда умывалась из рукомойника, баба Луша подавала ей полотенце. А на нём вышито: «Умывайся белей, ходи веселей, лице утирай, меня вспоминай». Глаза у бабушки приветливо голубели.
Чуть свет затваривала бабушка квашню. Кисловато пахло тестом, а уж потом, когда печь протопится, донесётся до Васьки хлебный дух, приятный, вкусный.
– Садись, жданная, за стол. Молочко парное от Вешки ждёт тебя.
Вешка большая, добрая корова, как говорила бабушка, в «красной рубашке». Ваську любила и даже давалась доить. Бабушка позволила подёргать её за соски.
Любила Васька бабушкины постряпушки на скорую руку из толокна.
– Когда я маленька была, – завлекательно вспоминала баба Луша, – дак меня от чаруши с тяпнёй оттащить не можно было. Вот и ты… Ешь толоконце, дак будет попка, как оконце.
У Васьки загорались глаза: что за тяпня такая?
И делала Лукерья для внучки из толокна тяпню. Посредине блюда островком толоконное тесто, а вокруг молочное море. Весело следить, как убывает «остров» под проворными ложками бабки и внучки. Как не убывать, если такая вкуснотища. А ещё из того же толоконного теста лепила бабушка «сычики». И правда, кулёмки, зажатые в кулаке, были похожи на птичек – сов да сычей. Ткни этим сычиком в сахарный песок и кусай. Не хуже кекса.
– Мы раньше-то слаще репы ничего не едали. Это теперь вам шоколады подавай, – приговаривала бабушка.
Если нападал на Ваську урос: кашу есть не хотела, щи не хлебались, бабушка не ругалась.
– А отец твой, когда маленькой-то был, дак никогда не уросил. Чо не дашь, всё у него нежёвано летело. Хлеб испекошь, корку отломит и давай наворачивать, сухоешко, или тюрю сделает, наломает кусков, молоком зальёт, и пошёл метать – только деревянная ложка о глиняную чашку стучит. Недосуг ему было уросить. То рыбачить надо спешно бежать на Чернушку, то по ягоды на вырубки. И всё босиком. До застылка самого бегал эдак. Летит вприскочку, только щёки красеют да пятки мелькают, – и добавляла. – Гли-ко, огурчик-то на тебя глядит, поешь, жданная.
Василисе становилось стыдно, что она такая неженка по сравнению с отцом. Принималась щи хлебать, кашу ложкой поддевать.
Занимаясь своим делом – ткацкий станок настраивая, молоко процеживая, поучала баба Луша внучку непонятными наставлениями:
– Всё испытывай, жданная, а хорошего доржись, жизнь-то такая: не всё будет под горку катиться, иной раз и круто в горку пойдёт. Под горочку-то бежишь да притормаживаешь, а в гору-то пыхтишь да лезешь.
Когда Васька подметала пол, бабушка предостерегала:
– Чисто мети, а то жених сопливой достанется.
Васька обижалась: никакого жениха у меня не будет.
Иногда бабушка уходила к своей подружке Арефьевне.
– Ты гармонь потереби, а я Акулинушку проведаю. У ней вчерась вечером-то свету не было. Уж ладно ли всё? А, поди, на Покровскую убрела в Коромысловщину. Дак опять бы сказалась, – и бабушка уходила озабоченная.
Бабушка твёрдо знала, когда кто из родственников и однодеревенцев родился и умер. По кому надо справлять годины, а у кого подкатывает юбилей и пора думать о подарке. Соседки дивились Лукерьиной памятливости.
– Да как это всё у тебя в черепушке умещается? Мне дак надо сто раз напомнить, – порицала себя Дарья Кочерыга.
– Она и в школе-то пуще всех всё знала, – вспоминала тихая ссутулившаяся Акулина Арефьевна. – Кабы не война, дак, поди, учёным профессором Лукерья-то стала бы, – высказывала она своё соображение.
Читать дальше