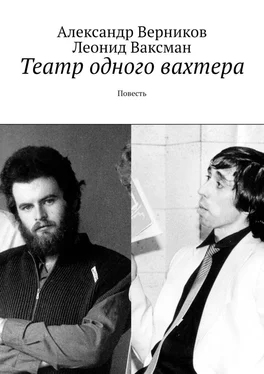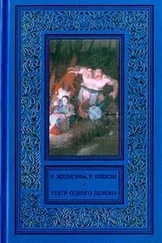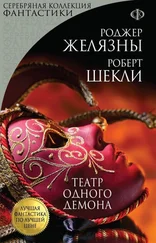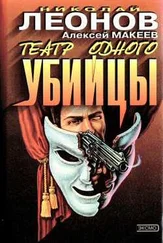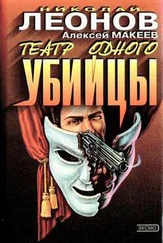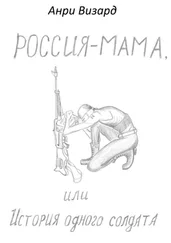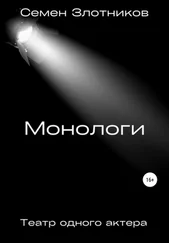И вот, закончив очередные рассказ или повесть, Сергей оставался один на один с зияющей бездной, едва ли не так же как герой одной из его любимых, правда, написанной другим автором книги – «The Catcher In The Rye». В лицо и грудь ему веяло призывным искушающим холодом неизмеримой пропасти, а затылком и спиной он чувствовал жаркое дыхание и напор жизни, и тогда он ощущал себя неким великим заслоном, стеной, щитом, неким водоразделом и заградительным валом, призванным и поставленным не допустить, чтобы шумный и яростный поток жизни, слепо стремящийся вперед и вперед, низвергся эдакой – пусть и очень зрелищной – Ниагарой или Викторией – в бездну, он ощущая себя ловцом и спасателем табуна прекрасных, но не знающих ни цены себе, ни страха за себя мустангов и он, так сказать, набирал полные легкие смертельного воздуха пропасти, напрягал широкие мышцы спины и, надолго задержав дыхание, вперивался в бездну. И от этого-то вперивания, от этого уже привычного и родного глядения в пустоту, в его, Анциферова, голове возникали мысли, – одна за другой, целые вереницы, картины – которые появлялись и делались все ярче и отчетливей на фоне зияющей пустоты как на экране, куда направлен кинематографический луч. Эти мысли заполняли пропасть, засыпали ее до отказа, делали проходимой и пригодной для жизни, но одновременно, они являлись и жертвой, которую Сергеи приносил небытию во имя спасения жизни. Когда же некоторые из этих мыслей становились особенно выпуклыми, сплетались в нерасторжимое, рождающее собственную жизнь целое, это оказывалось готовым замыслом, с которым Анциферов усаживался за стол и создавал новое произведение.
Глава третья – В свою очередь
Было бы слишком односторонне и унизительно полагать, что, стоя в разного рода очередях, мы в конце концов, получаем то, что желаем получить – как милостыню, как некую манну, которой должны быть беспрекословно благодарны, перед которой нам следует благоговеть. А, тем не менее (не будем разбираться почему наше сознание устроено так) большинство людей именно так и полагает. Конечно, если бы мы получали то, зачем выстаиваем очереди, бесплатно – то есть в самом широком смысле безвозмездно – тогда просительная, самоуничижительная установка наша была бы объяснима и оправдана, но так как мы всегда расплачиваемся (и в том числе за свое потерянное на ожидание время, за свои окоченевшие в том ожидании руки и ноги) – то, помилуй господи, почему? Почему мы позволяем, например, таксистам не сдавать нам сдачу и сдирать с нас нередко сумму, раза в два большую, чем ту, что значится на табло счетчика? Почему, стоя в очереди, замерзая и теряя время, не использовать это время на очень несложные размышления и догадаться, что и таксисты вместе с их машинами тоже стоят в очереди за нами и, более того – они не стоят, но мечутся по всему городу, отчаянно разыскивая нас на дальних перекрестках?
Вяземский давным-давно раскусил этот фокус (знание этого глаз опытный, каковым и является глаз извозчика, сразу прочитывал на его лице) и потому никогда, с тех пор как началась его самостоятельная жизнь не имел неприятностей с таксистами, а вернее сказать, они не имели неприятностей с ним. Вот и сейчас, когда Вяземский занимал место в хвосте длинной очереди на стоянке такси «Аэропорт», молодой водитель государственной машины марки ГАЗ-24, номер 26—08 СВУ Иванов Вениамин Степанович – занял свое место в очереди на Вяземского на другом конце города в куда более многочисленном, чем ряд людей на станции «Аэропорт», ряду самых разных средств транспорта. Вяземский, предвкушая встречу со становящимися в его памяти и воображении все более дорогими и желанными людьми в здании факультета, подвигался вперед крохотными шажками, в то время как Иванов, на дозволенном пределе скорости конкурируя с коллегами, покрывал расстояния в сотни метров от одного светофора к другому. Наконец, он вырвался за черту города и помчался по новому прямолинейному шоссе, последнему в этой местности земному пути, за которым последуют уже только взлетные полосы и пути воздушные, и пассажиру (командировочному), расположившемуся на заднем сидении, временами делалось жутковато от скорости, с которой шла машина – ему казалось, что она поднимется в воздух прежде, чем тот самолет, к которому спешит он, пассажир пока что такси, и полетит, если не в Таллин, то наверняка в кювет.
Водитель Иванов всюду, где только было возможно, ездил быстро, всегда, что называется, жал. Почему он делал это? Можно привести несколько объяснений: оправдывал перед пассажирами, видевшими его фамилию под фотокарточкой на панели управления, поговорку «Какой русский не любит быстрой езды?»; стремился перевыполнить дневной план и иметь повышенный заработок; старался забить и заглушить скоростью и сознанием большой свободы передвижения крайне неприятные, попросту кошмарные воспоминания невыносимого – по окончании факультета иностранных языков – года работы учителем в сельской школе, где свободы не было никакой, где дети не слушались его и не понимали, где он потерял голос, где был жестоко избит старшими братьями одного из разгильдяев-учеников; иллюстрировал бытовавшее в определенном кругу мнение о том, что выпускники иняза – мужчины – работают где угодно, только не в школе. Вероятно, из всех этих нот слагалось, так сказать, водительское аллегро Иванова, и это отвечало на вопрос «почему?». Но на вопрос «зачем?» – ответа не было. Этот вопрос, если уж и ставить его, для таксиста всегда подменялся вопросом «За кем?», и 16 ноября ответом на такой вопрос оказалось: «За Вяземским».
Читать дальше