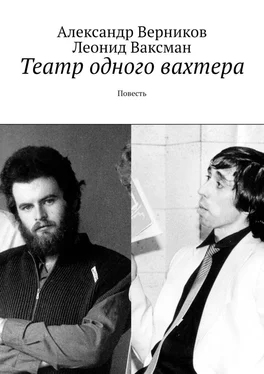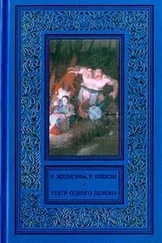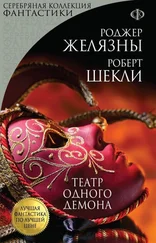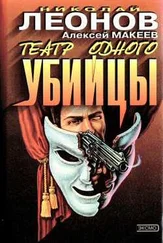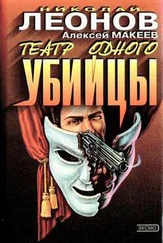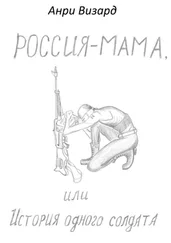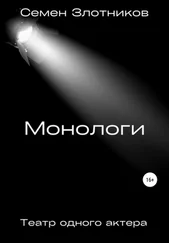Вот почему Вяземский не мог утешить себя оптимистической строкой любимого поэта. Но так как он, Вяземский, находясь в воздухе, уже нашел и почувствовал в строгой процессии стихотворного ритма, в метрике и четкой смене рифм определенную опору, и, кроме того, отринул, как неподходящие, стихи о сулящем новую жизнь весеннем, будущем, то он теперь вспоминал стихи о поздней осени, о том времени, что стояло над невидимой землёй за иллюминатором. Он снова взглянул в иллюминатор и, хотя кроме облаков ничего не увидел, и в том числе никаких нив (однако, облака были в конце концов туманом и они были седы, и кто-то из поэтов несомненно называл их «небесными нивами»), откинувшись в кресло, стал мерно, словно раскачивая строку из стороны в сторону, читать про себя: «Утро туманное, утро седое. Нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые…
И действительно, стихотворение, кроме того, что своим колоритом соответствовало как нельзя лучше настроению Вяземского, было избрано безошибочно, – потому что настроение это приводило в лучшее и более яркое, в живое прошлое и туда же самолет нес Вяземского. Прошлое действительно было живо – в стенах факультета иностранных языков – и лица, по крайней мере очень многие лица, по прежнему были там. Вспоминая эти лица и связанные с ними события, Вяземский, прикрытый собственными веками, заулыбался (что, в свою очередь, привело к оживлению и улыбкам тех в салоне, кто в течение всего рейса не сводили с него, Вяземского, глаз), и, сообразив, – словно эта мысль была прикосновением самого настоящего, теплого и живительного ветра – что он запросто может застать этих людей, увидеть их, заговорить с ними, он оживился и пришел чуть не в восторг. Он воспрял духом и так резко выпрямился в кресле, что взгляды, следивших за ним женщин и девушек (да и ценивших красоту мужчин), так сказать, посыпались с него вверх тормашками, словно пробудившийся Гулливер, пошевелившись, стряхнул с себя лилипутов, пытавшихся исследовать и измерить его во сне.
В это время самолет пошел на снижение и запрыгал по густым облакам как какой-нибудь школьник, съезжающий на спор на своем портфеле по обледенелым ступенькам крыльца. Те, кто сидели внутри салона, сразу почувствовали, с некой оторопью и священным ужасом сколь на самом деле грандиозна скорость реактивного лайнера – Вяземский же только развеселился. Но еще больше веселила его, аккомпанирующая спуску, специально для этой цели и для этих минут подобранная и записанная, и потому кажущаяся, с одной стороны, невероятно уместной, а с другой – столь же лихо-идиотской, передаваемая по бортовой радиосети песня: «Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня!»
Вяземский откинулся в кресле снова – он откровенно хохотал по поводу огромного вкуса и восхитительного чувства юмора экипажа Читинской авиалинии. Тело его крупно содрогалось, глаза были закрыты, и это дало последнюю перед посадкой и расставанием возможность тем, кому это было необходимо и дорого, насмотреться на Александра и, так сказать, запечатлеть его в своей памяти.
Глава вторая – Знакомство с Анциферовым
Среди тех, кого Вяземский, ранее обладавший широким кругом общения, надеялся встретить в Свердловске, произошли, соответственно эволюционному ходу времени, определенные изменения. Старая гвардия поредела, но природа, не терпящая пустот, вложила в незанятые ячейки общественных отношений и ролей новые имена. На факультете, где ранее блистал Вяземский, сейчас самой выдающейся личностью считался студент по фамилии Анциферов, и выдавался он на факультете прежде всего тем, что, так сказать, выдавался вон из этого факультета. Иными словами, он знал английский и немецкий языки с детства, и на иняз поступил только затем, чтобы, числясь в рядах студентов, иметь в течение пяти лет свободное время. Официально свободное время Анциферова именовалось свободным расписанием, и подразумевалось, что он может не посещать лекции и семинарские занятия, а лишь обязан сдавать зачеты и экзамены, и, в соответствии с неизменным успехом этих предприятий, получать несколько повышенную стипендию, которая была бы еще выше, вздумай Анциферов посвятить некоторую часть своего свободного времени общественной работе на факультете.
Однако, Анциферов был бесконечно далек от таких помыслов: несмотря на то, что у него в сравнении с остальными студентами была уйма времени, он с полным правом мог сказать, что времени у него нет ни минуты, или, по крайней мере, что времени у него – в обрез. Дело в том, что у Сергея (таково было имя Анциферова) были призвание и талант прозаика – он писал рассказы и повести и делал это непрерывно, то есть практически не занимался ничем другим, зная, что время, отпущенное ему на это ничтожно – пять лет – и что по истечение этого срока он уже не сможет, а вернее, никто, никакая общественная организация и служба не предоставит ему свободу отдаваться своему призванию и служить своему таланту так полно и безраздельно. И поэтому он стремился выдать все, что мог в гарантированные пять лет. Сергей был очень поздним ребенком и потому более чем двадцатилетняя задержка в утробе матери с лихвой заменила ему так необходимый, по общему мнению, для писателя жизненный опыт и даже, напротив, делала этот опыт уникальным. И если по паспорту Анциферов находился на двадцать втором году жизни, то фактически ему было никак не меньше сорока пяти лет, что и позволяло ему, не тратя время на так называемые пробы пера, поиски стиля и темы, создавать сразу зрелые, значительные и законченные вещи. Вся трагедия положения Сергея, как, впрочем, и его комизм, заключались в том, что он действительно являлся этим самым – настоящим, зрелым и большим писателем (в каком качестве и был принимаем и очень известен в свердловских полуофициальных и неофициальных литературных кругах), а не каким-нибудь там желторотым, шумным графоманом. Думая о месте своей фигуры в русской словесности в целом и в литературном Свердловске в частности, Анциферов с полным правом мог бы сказать, что это не он при своем появлении был воспринят в литературные круги, а что, так называемые, круги эти появились и пошли едва ли не впервые от попадания Анциферова в культурный Свердловск как в тихую, почти стоячую воду – Сергей приехал в областной центр из города Чернотурьинска, где провел детство, и где жило много немцев, чем в какой-то степени и оправдывалась неполная русскость его фамилии, и объяснялось отличное, врожденное знание не просто немецкого языка, но для Сергея, как для писателя, в первую очередь языка Гриммельсхаузена, братьев Гримм, Гейне, Гёте, Гельдерлина, Шиллера, Бюхнера, Рильке, Музиля, Томаса Манна, Макса Фриша, Инеборг Бахман и многих, многих других.
Читать дальше