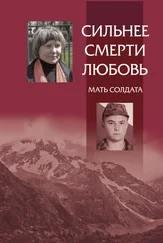– Как ласково он произнес это «Аню-ю-ся», когда умирал, помнишь, Катерина? – задумчиво произнесла Настасья.
– Так это имя его жены. Только ее Анкой звали. А он видите, кума, какую нежность придумал – «Аню-ю-ся», – повторила Катерина.
– Ох, Катерина, сердечный разговор мы с тобой ведем! Я вот что хочу сказать: чем слабее мужик на голову, тем больше у него остается нежностей на бабу. Посуди сама. Сколько надо мужику, чтоб у него голова была здоровая? Много! Все, что у него есть, Катерина! Вот и получается, что все идет мужику в здоровую голову! А нам, бабам, ничего не остается.
Настасья мечтательно задрала голову вверх, будто надеялась увидеть там всю недополученную за свою жизнь нежность. Катька, услышав такую длинную речь, с почтением взирала на подругу, соглашаясь с ней.
– Слышь, Настена, а мне кажется, что покойный Емеля не так уж и слаб был на голову… Как ты думаешь?
– А кто же теперь узнает? Его больше нет, – уклонилась от ответа Настасья и обеспокоенно продолжила:
– Пойдем, надо сменить женщин!
Из открытого окна, где лежал покойник, слышались напевные слова старушек:
«… и прими, Господи, душу ныне усопшего раба твоего Емельяна-а».
На второй день к обеду Емельку хоронили. Односельчане сбросились деньгами и привезли из дальней деревни священника. Своего в селе не было. Денег было не так много, поэтому священника повезли сразу на кладбище, чтобы отпеть Емельку у могилы. Гроб с покойником погрузили на телегу, в которую была запряжена гнедая кобыла Зорька. Лошадь была молодая и бодрая, но, приличествуя скорбному случаю, шла тихо, опустив голову. Зорька не впервые выполняла подобную миссию. За гробом шли соседи, близкие и дальние. Было тихо. Плакать было некому. Пес Жулька норовил занять почетное место за телегой, но Настя отогнала его в самый конец процессии. Жулька, покорившись, трусцой бежал в сторонке, иногда тихо поскуливая. Когда стали въезжать в ворота кладбища, кто-то подсказал, что собаке негоже быть у могилы во время погребения. Да и священник будет против. Дед Павел, который при случае исполнял роль кладбищенского сторожа, задержал пса, заманив его в сторожку, и закрыл дверь на крючок.
Ритуал прошел быстро. Священник, проглатывая окончания слов молитвы, спешил, потому как тучи в небе указывали на дождь, а ему еще надо было добираться в свою деревню. Гроб опустили в яму, могилу засыпали землей. Дед Павел воткнул в изголовье могилы наспех сколоченный из досок небольшой крест, сказав, что это временно.
После того как земля на могиле осядет, сельчане поставят своему Емеле более подобающее надгробие.
Кладбище опустело. Дед Павел пошел к сторожке выпустить на волю пса. Тот, услышав, что все ушли, протяжно выл. Выбежав из сторожки, он заметался на одном месте, а потом стрелой понесся по тропинке между крестов, в конец кладбища, к свежей Емелькиной могиле…
– Ишь ты, животина, а понимает, как человек, – вслух произнес дед Павел и надолго задумался.
С конца кладбища изредка доносилось тихое, прерывистое поскуливание Жульки…
– И куда теперь пес?
Пхарес (цыганск.) – тяжело.
Болото (местное) – грязь.
Ей! Раклори! (цыганск.) – Ой! Девочка!
Адале джювлы (цыганск.) – эта женщина.
Пурдо (цыганск.) – тюрьма.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
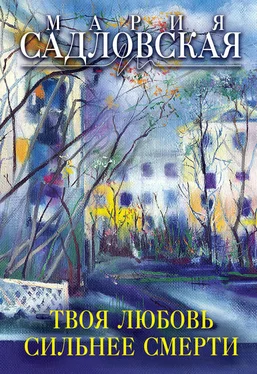

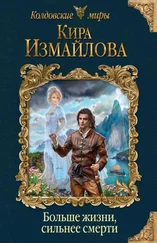






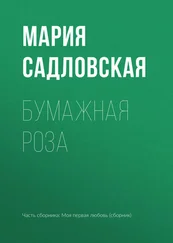

![Мария Садловская - Бумажная роза [сборник]](/books/424361/mariya-sadlovskaya-bumazhnaya-roza-sbornik-thumb.webp)