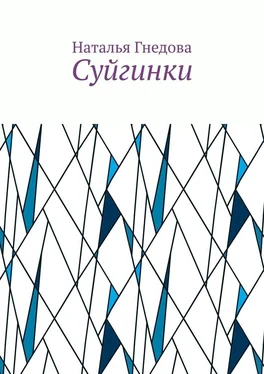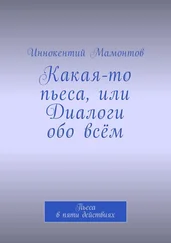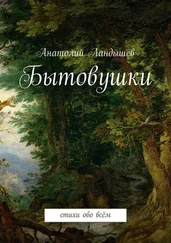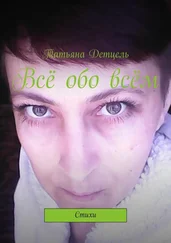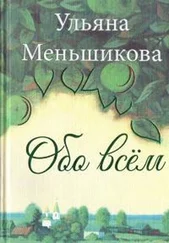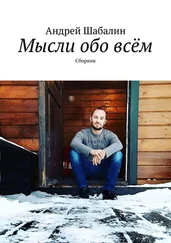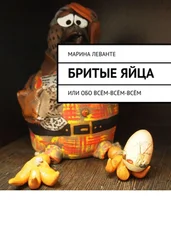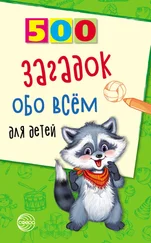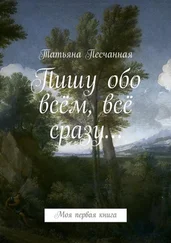Долгожданную раннюю весну встречали корабликами на первых ручейках, затем резались ловко в ножички, а особенно азартно проходили игры в кульду и лапту, теперь совершенно забытые на сельских улочках. Чуть только становилась потеплее вода в местном озерце или заполненных дождевой водой ямах после выемки песка, пренебрежительно названными «лужами», нас невозможно было дождаться дома. С посиневшими от купания губами согревались у костерка, вконец оголодавшие намеревались добежать до дома, а по пути непременнно останавливались попрыгать на горячей резине складированных у гаража шин. Прыгали до изнеможения и, разгорячённые, опять возвращались купаться. Бродили по окрестным полянкам, лакомились земляникой, морошкой, жевали живицу, конский щавель, ещё какие-то кисленькие травки и уж совсем поздно возвращались домой.
Наши игры, бывало, доходили до шалостей, доводивших до жалоб от соседей и наказания родителей. Считалось опасным шиком залезть в чужой огород за ягодой или подсолнухами, это называлось почему-то «гонять хорька». Будоражило наше сознание ощущение рискованного приключения, особой секретности и неважно, что предмет добычи мог произрастать на своих усадьбах. Иногда по темноте доводили мы до белого каления соседских старух и дурацкой забавой: привязывали на длинной нитке к оконному стеклу картофелину и, спрятавшись поблизости, стучали. Старухи спросонья думали, что кто-то стучит по делу, подходили, спрашивали и, не получив ответа в очередной раз, разряжались русским матом. Мы ржали, как кобыляки, и разбегались.
Деревенские дети нашего времени росли на улице и вместе с улицей. В нашем распоряжении были берег реки с потрясающе вкусной родниковой водой, лес, который кормил ягодами, грибами, орехами, скрывал построенные нами «домики» и даже давал возможность заработать: в местном лесхозе принимали собранную нами сосновую шишку.
У нас было озорное солнечное детство, где царила босоногая свобода и свойская справедливость. Мы не были идеальными детьми, но не позволяли жестокости, за своих стояли горой и даже, когда ссорились, то не злобно, а по особенной «наше уличной» моде обзывались простенькими и, конечно же, не без ненормативной лексики стишками. До сих пор вызывает улыбку строчка из такой перепалки: «Сейчас как двину, так и вы….шь дубину». И побеждал в этом конфликте не сильный, за спиной каждого была достойная команда, а самый артистичный и языкатый.
И при всей счастливой беззаботности нашего уличного детства, мы успевали выполнять каждодневные домашние обязанности: а забот в деревне хватало. В нашей семье детской обязанностью считалось немало: с первого класса мы делали уборку в доме, у каждого своя часть по очереди, принести дров и воды, сходить за хлебом в магазин, а в летний период это могла быть целая многочасовая история. Огород в двадцать соток требовал ухода всех членов семьи: и посадка, и прополка, и полив, и особенно тяжкое дело- окучивание и копка картошки.
Конечно, это лишь небольшая часть хозяйственных работ, лежащих на плечах родителей, но в сельской семье лодырем вырасти почти невозможно. Хотя встречались удивительные исключения и на нашей кулацкой улице, но об этом в другом рассказе.
Церквей в нашем посёлке, в отличие от старинных сёл, отродясь не бывало. Младенцев однако же крестили местные бабки, а точнее «погружали», так правильно назывался этот обряд, в том числе и детей нашей семьи. Во многих домах хранились православные иконы, у кого просто как семейная реликвия в комодах, у кого на видном месте, как и у нас. Отец соорудил на кухне над буфетом небольшой угол, где поставили мамин крест, родительское благословение в самостоятельную жизнь, и принесённый в дом от чужих людей складень. Мамин крест до сих пор висит у меня в кабинете над рабочим столом как символ связи поколений нашего рода. А складень, принесённый в дом когда-то неверующим отцом, достался по наследству брату, который жил всегда рядом.
Мама нам позволяла во многом хозяйничать по- своему: и мебель переставить, и немодные на то время вышивки снять со стен и бросить на чердак- только наш комсомольский порыв убрать иконы остудила, сказала как отрезала: «Не вами поставлено, не вами и убираться будет».
Мама считала себя верующим человеком, молилась перед сном короткой молитвой, прося у небес за детей и защиты на сон грядущий. Церковные ритуалы были от неё далеки, главное, говорила она, верить в душе. А в семье до сих пор сохранились традиции по заведённому ею порядку праздновать пасху и троицу. Мы абсолютно ничего в этих торжествах не понимали, но с удовольствием принимали условности празднований: крашеные яйца, куличи и наблюдения, как мама говорила, за «играющим» солнцем.
Читать дальше