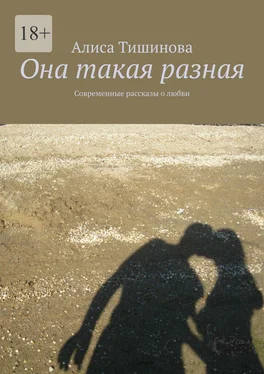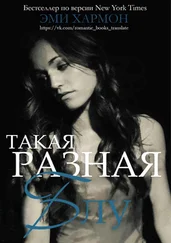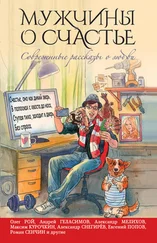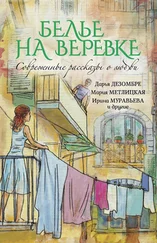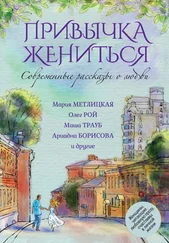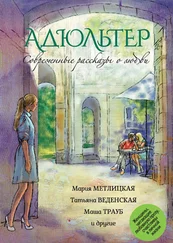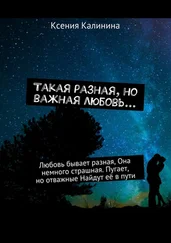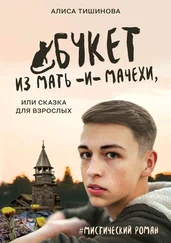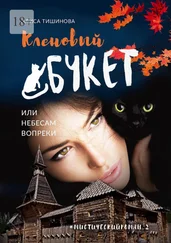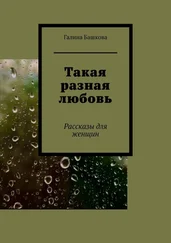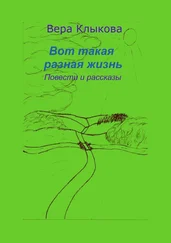Затем Ирина Михайловна повела девушек в ординаторскую, и передала больных, – то есть, распределила папки с историями болезни, уточнила детали: кого вскоре на выписку, сколько поступит плановых, как здесь принято обследовать и лечить. Многое было иначе. Даже истории болезни выглядели непривычно – в разделе назначений не было дневниковых записей: что добавить, что отменить, прочерк – если без изменений. Он весь был на одном листе, оформленный в виде таблицы, в которой имелась, и активно использовалась древняя температурная кривая. Препараты записывались вверху, а в боковой графе стояли даты. На пересечении их, в маленьких квадратиках, выглядящих как-то по -детски, – ежедневно отмечали плюс или минус.
Необходимо было быстро привыкнуть к иному виду документов, лентам нерасшифрованных электрокардиограмм (оказывается, здесь их читали сами терапевты, а не кардиологи!), отсутствию многих привычных методов обследования.
Больница поразила – люди не солгали. Деревянная. Древняя. Инфекционное крыло и детское отделение вросли в землю по самые окна. Подгнившие, порченые жуками-древоточцами, половицы, в сочетании с отсутствием канализации (туалеты в виде простой дырки в полу, прямо в здании), – местами создавали такую вонь, что кружилась голова. Вот так, наверное, жили люди в средневековье, даже ещё хуже. Привыкали. Ну, ничего, – зато, небось, и Пирогов, и Гиппократ – начинали не в лучших условиях. Кошмарный сон в виде железного рукомойника с намотанными на нем капельницами, и стоящего внизу ведра с водой, – сбылся.
Зато Ирина Михайловна – само изящество и непосредственность – шутила, порхала, присаживалась на стол, демонстрируя длинные сапожки на стройных ногах; завитки кудрей. Нет, чувствовалась в ней, конечно, некоторая отсталость от городской моды, – но всё же, в целом! Она умудряется следить за собой, прихорашиваться, и не страдать в таких условиях, – словно это нормальная среда обитания! Удивительно. Неужели ко всему можно привыкнуть, и даже сохранить кокетливость и лёгкость?
Девушки так устали, что не имели сил возмущаться местом, где им предстояло жить, – бывшей палате на две койки, рядом с детским отделением (хорошо, хоть отдельный вход имелся). Она была узкая, с одним лишь столиком между двумя короткими продавленными койками; со второй, стеклянной, слегка замазанной белой краской, дверью. То есть, их даже постоянно могли видеть пациенты! Эта дверь вела в коридор, через который можно было пройти к очередным кошмарным «удобствам»: рукомойнику и жалкому подобию кухни, где имелись плитка и чайник. Подругам хотелось есть, спать, и плакать; больше всего хотелось очутиться дома.
Как и из чего приготовить сносную еду? Надо купить продукты, но для этого опять куда-то идти, искать магазин. Как разложить вещи, если для них нет места? Как увидеть себя в зеркале, если его нет, – кроме малюсенького, в косметичке? Как смыть с себя дорожную грязь, переодеться во что-нибудь, похожее на домашнюю одежду? Как заснуть на жуткой койке, а главное, – как завтра проснуться, и работать, будучи при этом чистыми, сытыми, причесанными? Лена и Надя пребывали в заторможенном состоянии, стараясь не нагонять отчаяния, не впадать в истерику. По счастью, магазин находился рядом с больницей, и девушки смогли купить готовых замороженных котлет, макарон, хлеба, сыру и сосисок. Холодильник при кухне имелся. Сварили сосиски вместе с макаронами (ковшичек пригодился), поели прямо из него.
– А послезавтра, в субботу, надо купить водку и селедку! – выдала удивительное предложение Лена. – отпраздновать событие!
– Почему водку с селедкой, а не вино? – удивилась Надя.
– Будем превращаться в аборигенов. Здесь вряд ли пьют вино.
– Хм… – Надя улыбнулась, но водки ей совсем не хотелось. Да ещё с селедкой. Тут помыться-то негде, душно, тесно, – какая еще селёдка…
Кое-как умылись, легли. Духота, неудобные кровати, свет из-за полупрозрачной двери, и тревожные мысли мешали заснуть. Но всё-таки сон сморил их.…
Утренняя пятиминутка была нудной, и весьма необычной. Главный врач, тот самый бородатый мужик, (он даже не подумал хотя бы накинуть белый халат на свитер грубой вязки), начал её со слов:
– Ну, что у нас по хозяйству?
(Позже это вступление каждый раз вызывало у девчонок приступ смеха.) Шло скучнейшее для них обсуждение запасов дров, угля и воды; еды в столовой. Обсуждалось, где необходимо заменить оконное стекло; в каком отделении провалилась половая доска, и тому подобное. Врачи бурно дискутировали, спорили, ссорились. О больных никто и не вспоминал. Под конец, правда, символически выслушали короткий отчёт дежурившего ночью офтальмолога – рослого кудрявого мужчины лет сорока, с насмешливым выражением лица (его тоже, как выяснилось позже, всегда веселила фраза: «Что у нас по хозяйству?»). Хозяйство волновало присутствующих куда сильнее, чем пациенты.
Читать дальше