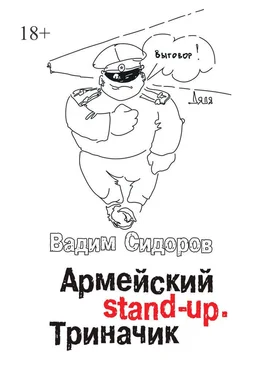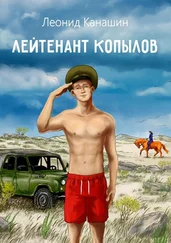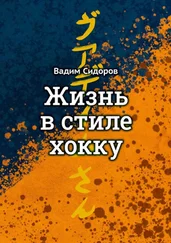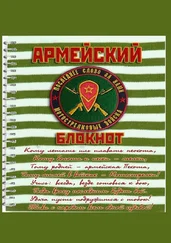В казарме во время поступления все крутилось и вертелось, как в барабане лото. Шарик выпал – еще один выбыл. Система-то олимпийская, навылет. Здесь можно было выбыть, даже успешно сдав экзамены, но не оказавшись при этом комсомольцем. Комсомол для поступления, как первый сексуальный опыт для семейной жизни, был просто необходим. Сейчас это странно звучит, но комсомольцем был обязан стать любой добропорядочный гражданин. Иначе нельзя. Так вот, в казарме постоянно съезжали, перемещали, двигали кровати, уносили чье-то белье. Какая-то часть кубрика после очередного экзаменационного дня безвозвратно пустела. Туда перебирались другие люди. Примечательной была одна кровать. Она была двухэтажная. Конечно, не в этом ее уникальность, в казарме все кровати двухэтажные. Изюм был в том, что с обратной стороны верхнего яруса за сетку был прицеплен чертик – маленький, черный, ну типичное каслинское литье. Никто из пацанов, кто спал на этой кровати, не поступил. Мистика…
Особого внимания хочу удостоить чудо-объект недвижимости под названием казарма. Та, в которой жили абитуриенты, а в последующем и курсанты моей роты, была красная – в прямом смысле этого слова. Такие объекты можно встретить в любом бывшем губернском городе. Строились они из красного кирпича – с очень толстыми стенами, рельефной, достаточно выразительной кладкой на фасадной части здания, высоченными потолками и узкими окнами. Здания казарм с одинаковым успехом могли стать и жильем «бизнес-купеческого класса», и казармой, и конюшней с лошадьми и навозом, если город захватят «белые». В челябинском училище есть несколько таких казарм, переживших эпоху. Любящие руки курсантов регулярно драили в них полы (по-военному «взлетки») мылом до кошачьего блеска, натирали стекла окон до того состояния чистоты, когда за ними даже южно-уральская природа становится просто южной какой-то. К казарме по неизвестной мне традиции всегда примыкает курилка. Это официальная зона, в которой можно на троих выкурить сигарету, почистить сапоги на специальных приспособлениях, прикованных к стене, и обсудить последние новости, говоря курсантским языком – «потрындеть» и «поржать». Именно в курилке собирались целые театры одного актера. Байкам не было конца, обсуждалось все – от революции до дефлорации – на смачном, особенно живом русско-военном языке.
Были на территории училища и другие достопримечательности, например, роскошная аллея с голубыми елями. Круг по этой аллее составлял ровно один километр, хотя тот же из пацанов, кто бегал кроссы не очень хорошо, пытался всегда усомниться в истинной ее длине и втайне проклинал ландшафтный дизайн родного училища.
Рассказ был бы неполным, если бы я не упомянул сами экзамены и ужас, который они вселяли всем участникам. Исключение составляют только ребята-азербайджанцы. Вот уж кто не волновался. Для них интриги в поступлении не возникало, они всеми предметами владели «в оригинале».
Из экзаменов наиболее запомнились физика и сочинение. Физику принимал удивительный человек с весьма «физичной», как тогда казалось, фамилией, которую я не запомнил. Это благодаря ему приличный конкурс при поступлении в вуз мог обернуться серьезным недобором в итоге. И чертик тут ни при чем. Представьте себе военного коменданта крепости, грозу гарнизона мужской и, как говорят, женской его частей, который при очередном осмотре системы коммуникаций умудрился получить разряд молнии, выжить, прозреть в физике, сменить профориентацию, написать несколько книжек, защитить ученую степень и стать моим экзаменатором. Возможно, это легенда, но у него на экзамене бледнели все – и медалисты, и отпетые мошенники-бомбисты. Бомбистами в дореволюционной России называли революционных террористов, а в советское время – студентов, использовавших на экзамене шпаргалки – «бомбы».
Прежде чем перейти к самому экзамену, сделаю небольшое отступление. В школе мне посчастливилось быть не только отличником, хорошистом и комсоргом, но еще и лаборантом в кабинете физики. Поскольку учитель физики у нас был педагог неординарный и продвинутый, то он преподавал по методу Шаталова. Иначе преподавать было тогда немодно. Напомню, этот метод обучения предполагал зрительное восприятие и запоминание информации, в том числе «физической». В мои лаборантские обязанности входило оформление всех демонстрационных материалов. Причем за всю школьную программу. Хотя рисовал в основном папа, физику я знал лучше всех, наизусть – по картинкам. В нашем школьном юморе они значились как «веселые картинки», по названию одноименного журнала. За это мне еще и доплачивали 40 рублей. По тем временам – это ползарплаты мамы и треть зарплаты папы. И вот в училище, получив экзаменационный билет, я сразу воспроизвел графическую часть ответа в синих цветах и красках. И с этой «красотой», абсолютно уверенный в себе, пошел сдаваться. Хорошо хоть задачу решил. Ближе к середине моего доклада препод взял мой опорный конспект – так, по версии Шаталова, правильно назывался листок с ответом. Он посмотрел на мою работу и задал один только вопрос: «Это что за „Мурзилка“?» Я уверен, что он перепутал один детский журнал с другим, но коменданту крепости это знать было необязательно, да и вряд ли такое уточнение могло повлиять на исход экзамена. Моя попытка что-то объяснить про методы Шаталова и его последователей из 41-й, очень средней, школы, похоже, только раззадорила боевого профессора. Он преобразился, потерял серьези как-то по-жуковски рассмеялся: «Задачу решил?» Услышав «Да», не глядя ни на меня, ни на задачу («Свободен! Свободен?!», – подумал я, но опять ошибся), этот немигающий, неулыбающийся «маршал от науки» поставил мне четверку. Пожалуй, это была моя первая боевая победа – победа, построенная на коммуникациях, а не на реальных знаниях. Тут главное не расслабиться, подумал я тогда. И в этом не ошибся.
Читать дальше