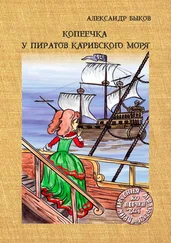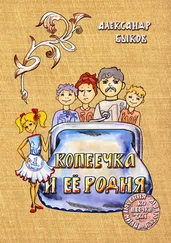– Я Спасский, – ответил старичок, – давайте ваше письмо.
Петров протянул бумагу, ученый пробежал её глазами и посмотрел на студента.
– Ну что Вы хотите спросить, молодой человек, только у меня очень мало времени, буквально, семь-десять минут.
Петров начал рассказывать ученому о своей работе с кладами монет начала XVII в. и документами периода Смутного времени. Спасский слушал с большим вниманием, время от времени задавая уточняющие вопросы. Отведенные первоначально минуты давно закончились, но разговор был в самом разгаре.
В дверях отдела нумизматики появился высокий блондин.
– Иван Георгиевич, мы начинаем заседание.
– Начинайте без меня, Всеволод Михайлович, у нас тут очень интересный разговор получается.
В итоге на разговор ушло целых три часа. Правда, ни тот, ни другой собеседники не заметили времени, настолько интересной для них была тема обсуждения. Снова появился высокий блондин:
– Иван Георгиевич, мы закончили заседание.
– Да, – ответил ему Спасский, – и мы тоже заканчиваем, Вы пишите мне, молодой человек, не стесняйтесь, я Вам отвечу, поверьте, ваша тема стоит не только диплома, но целой диссертации.
– Иван Георгиевич, можно мне передать от Вас привет нашему профессору Колбасникову, Вы ведь с ним знакомы?
– Нет, – покачал головой Спасский, – даже никогда не слышал такой фамилии, но это не важно, он же Вас рекомендовал, и мы встретились.
– Да, да, конечно, – согласился Петров.
Удивлению профессора Колбасникова не было предела, когда странноватый студент вернулся из Эрмитажа не только с отличной характеристикой своей работы, но и стопкой книг с автографом знаменитости. В плане науки тема о денежном обращении в Смутное время оказалась, на удивление всей кафедры, перспективной. Но тогда Петров не понимал, что его восторженный рассказ о поездке в Эрмитаж, кроме гордости за успехи ученика, может вызвать и еще кое-какие другие, совсем противоположные чувства.
Вскоре студент заметил, что научный руководитель все время ищет причины, чтобы отложить разговор по существу работы. Он перестал приглашать Петрова к себе домой, хотя другие студенты регулярно посещали профессорскую квартиру, долго держал без рассмотрения курсовую за 8 семестр, а когда Петров стал настаивать на обсуждении, отмахнулся, сверкнул золотыми зубами и с улыбкой сказал: «Ну ты и так это лучше всех знаешь».
Петров не понимал, что произошло, у него было много вопросов по работе, особенно по общеисторической части. Она должна была стать первой частью будущего диплома. Колбасников считался специалистом по истории XVII в., но помощи никакой от него студент дождаться не мог. Выручал доктор наук Спасский. Студент писал ему письма со своими размышлениями на тему диплома, и тот обстоятельно на них отвечал, попутно давая ценнейшие научные советы.
В начале нового года, когда на четвертом курсе объявили набор на спецкурсы, на истфак пришел новый преподаватель Василёв, ершистый усатый мужик с лицом казацкого типа. Он был не похож на других профессоров и доцентов. В нем не было академического лоска, как в Колбасникове, но рассказывал о своем предмете он с таким увлечением, что поневоле заражал им слушателей.
Темой спецкурса Василёва была польско-литовская интервенция начала XVII в. и её последствия для Вологодского края. Петров слушал лекции не просто с увлечением, он ловил каждое слово, ведь Василёв открыл для него новый мир, связал все эти многочисленные сведения о жизни и быте отдельных людей в четкую схему взаимодействия населения с властью в условиях нестабильности и суровых испытаний. Некоторые вопросы, связанные с денежным обращением, стали для студента понятнее.
Одна из центральных тем спецкурса посвящалась «Вологодскому разорению», нападению на Вологду в сентябре 1612 г. отряда поляков, которые три дня грабили город, уничтожив большую его часть. Петров с удивлением узнал, что в этом войске поляки и союзные с ними литовцы составляли незначительную часть. Остальные были представлены черкасами, т. е. казаками из южных городков, в основном, запорожцами и русскими «ворами», так называли в XVII в. всех, кто вышел с грабежом на большую дорогу, а не только похитителей чужого имущества, как сейчас.
Почему же Вологда, один из крупных и важнейших городов Московского государства оказалась беззащитна перед бандой интернациональных головорезов? Причин было несколько. Но все они вертелись вокруг одной фразы из первоисточника, опубликованной еще в середине XIX в.: «…все, господа, делалось хмелем? Пропили город Вологду воеводы».
Читать дальше
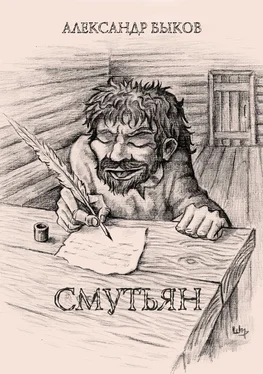




![Александр Быков - Дружина сестрицы Алёнушки (трилогия) [СИ]](/books/424451/aleksandr-bykov-druzhina-sestricy-alenushki-trilogi-thumb.webp)