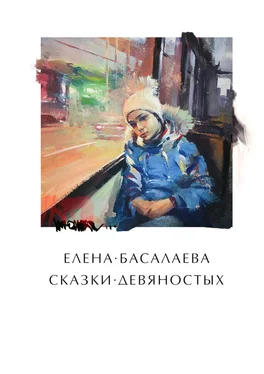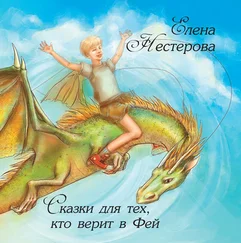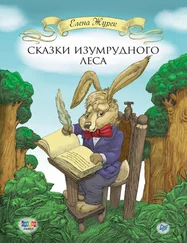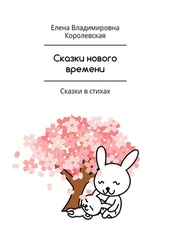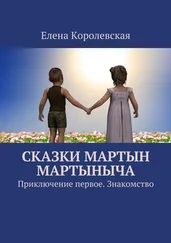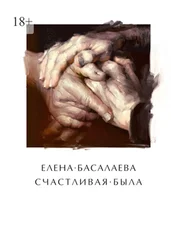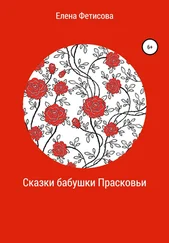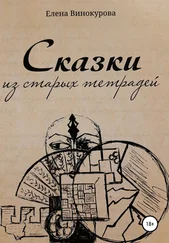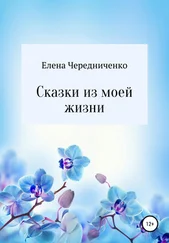Но мой слух уловил его голос: он уже стоял в дверях и показывал какого-то трансформера Лёшке Богданову. Я встрепенулась от радости и тут же замерла: ведь теперь у нас началась новая жизнь, которой он так боялся. Теперь он может забыть обо всём, что было, и сделать вид, что никогда со мной не дружил…
Но он уверенно прошёл мимо парт и поставил свой рюкзак на соседний с моим стул:
– Вместе? – с улыбкой спросил он.
– Вместе, – ответила я.
На одной из чёрно-белых фотографий – пахнущих фиксажем, с отломанным уголком – меня, месячного младенца, держит на руках широколицая женщина с короткими волнистыми волосами. Она кажется слишком пожилой, чтобы приходиться мне матерью, и, судя уже по другим фото в этом альбоме, слишком непохожей на меня и для того, чтобы быть бабушкой.
Это – тётя Тома, подруга, или, как она всегда скромно себя называла, приятельница моей мамы. С матерью они познакомились в пионерском лагере, где моя родительница была фельдшером, а Тамара Николаевна – медсестрой. В какой-то момент я узнала, что в их компании была и третья подруга – некая Марина, которая умерла, попав под машину. О её смерти горевали и тётя Тома, и моя мама. Эта Марина смотрела на меня с другой фотографии, где все три приятельницы, обряженные в спортивные штаны и «дачного» вида кофты, сидели на пикнике, счастливо улыбаясь.
Тётя Тома была рядом с тех самых пор, как я появилась на свет. Мама родила меня поздно, почти в сорок, а её приятельница была старше на целых семь лет, и её сын Родион был уже взрослым парнем. Муж тёти Томы, бывший детдомовец, потерявший в Великую Отечественную войну обоих родителей, умер от инфаркта совсем молодым. Другого брака и других детей у тёти Томы не случилось, единственный сын был пока не женат, и всю нерастраченную любовь, все горячим ключом бившие в неё материнские, родственные чувства она обратила на меня и на мою маму.
Она приходила раз в две или три недели, раз в месяц – в крайнем случае. В первом классе у нас ещё не было домашнего телефона – узнать заранее, будет ли сегодня тётя Тома, я никак не могла, и с утра воскресенья до обеда находилась в сладком ожидании. Подъезды тогда не закрывались, железных дверей не было, и только негромкий стук в дверь вместе с ласковым раскатистым звуком моего имени «Ле-на-а!» извещал меня о её приходе.
Тётя Тома всегда приносила с собой какую-нибудь снедь: оладьи из гречки, печенюшки на рассоле, консервированную сайру, салаку. Летом и осенью она часто привозила фрукты и хвасталась:
– Какую хурму я на базе оторвала!
Я поняла, что база – это какое-то чудесное место, где можно купить много вкусного совсем задёшево, и мечтала там побывать.
Приезжая к нам, тётя Тома обедала, всегда восхищаясь стряпнёй моей мамы, и неизменно спрашивала:
– Ну, Любочка, чем тебе помочь?
Мама немного сопротивлялась, но отказать тёте Томе было невозможно, и приходилось назначать работу. Тётя Тома то ходила в аптеку, то на ГорДК за дешёвой картошкой, то делала салат «Мимоза» или винегрет, но чаще всего чинила бельё. Постельное у нас хранилось ещё восьмидесятых годов, дыр на нём хватало, и каждую прореху тётя Тома искусно закрывала кружевным цветком. Пока мама готовила или драила квартиру, тётя Тома вязала крючком и разговаривала со мной.
– Что ты читаешь? – спрашивала она меня.
Я показывала ей книгу – «Жёлтый туман» Волкова, «Уральские сказы» Бажова, «Сто один далматинец» Доди Смит, и коротко объясняла, о чём она. Тётя Тома, в свою очередь, делилась со мной тем, что читала сама. И не знаю, какой литературой интересовалась она в молодости, но в переломные девяностые, когда вдруг оказалось, что дверь в иные миры существовала всегда и широко открыта, подруга моей мамы вовсю увлеклась мистически-оздоровительными книжками.
Она выписывала журнал «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни) и приложения к нему, делала какие-то упражнения из йоги и учила меня правильно дышать. В начале девяностых она, как и моя мама, смотрела передачи Алана Чумака. Телевизионный целитель говорил, что на расстоянии заряжает воду, фотографии, «крэмы», и доверчивый народ приносил всё это прямо к экранам телевизоров, ожидая, что с голубого экрана польётся «положительная энергия». Тётя Тома долго пыталась лечиться «заряженной» водой, но потом разочаровалась в этой методике и решила обратиться, как сказали бы сейчас почитатели «Гарри Поттера», к травологии.
Она любила природу и стихи русских поэтов о природе. Весной тётя Тома собирала в пригородных лесах почки и листья мать-и-мачехи. Как сейчас помню бело-золотую, всю светящуюся радостью берёзовую рощу Студгородка. Тугие шоколадные почки ещё не начали распускаться, но тонкий острый запах свежего листа уже чувствовался, если наклониться к веткам. Мы отшелушивали берёзовые почки, ссыпали их в банку, собирали хрупкие серёжки ольхи, молодые сосновые иглы, однажды отыскали гриб чагу – у тёти Томы всё шло в дело, всё становилось лекарством.
Читать дальше