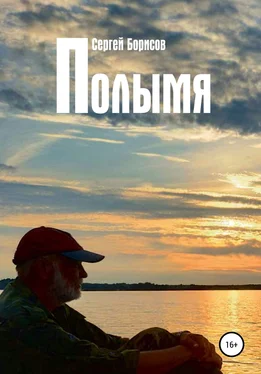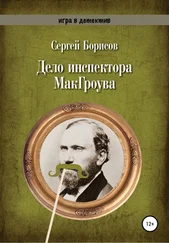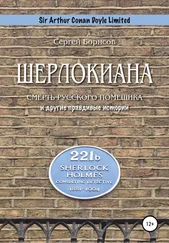Вот и кривая береза, словно стыдящаяся своего уродства и потому отшатнувшаяся от соседки-сосны. Олег свернул в лес.
-–
Сначала лес был прозрачный, приятный ногам и глазу, но вскоре загустел и еще метров через сто стал неотличимым от того, где нашли свой конец залетные. Только уклон меньше. А так все одно: черные сухие ветки лопались под ногами, горбатились еловые корни, вверх по стволам полз мертвенно-серый лишайник, прятал от неба землю изумрудный папоротник, и зря прятал, не было неба над ним.
Олег шел быстро. Еще немного – и речка Черная, но ему за нее не надо, ему к старице. На лодке от старицы до усадьбы двадцать минут.
Деревья стали ниже, света больше, папоротник отступил перед крапивой. Он взял правее. Впереди одна преграда. Противотанковый ров, оплывший, заросший, но по-прежнему глубокий и таящий опасности. Хотя какие там опасности, просто варежку не разевай. Столбы ограждения давно сгнили, а колючая проволока кое-где уцелела. Ржавая и этой ржавчиной скрюченная, она не ушла в землю, а поднялась над нею вместе с выросшими деревьями и кустами. Этой проволоки и следовало остерегаться. Как-то Олег не углядел и раскровянил бедро, потом долго заживало.
Вот и ров. С ходу бегом – вверх, на отвал, потом вниз, где сыро, а в бочажках, выстланных гнилыми листьями, черная вода. И снова вверх.
Когда ров копали, не о том думали, что станет с ним по весне, потекут по нему талые воды к озеру или застоятся. Вот и получилось, что не текли, а собирались и потом до середины лета уходили в землю, да и то не все и не везде. Тогда о другом думали – о немецких танках. Их должен был остановить ров, вырытый местными деревенскими и привезенными из райцентра гражданскими. Или хотя бы направить на дорогу, прикрытую блиндажами. Хотя, может, и думали, и специально отрывали так, чтобы весной ров, полный воды, стал вовсе непроходимым. Да, может, и так, потому что осенью 41-го стало ясно, что война скоро не кончится, раз немцы уже в Москву стучатся, и будет еще год 42-й, да и его вряд ли хватит, чтобы оборониться и вперед пойти.
«Про то лишь товарищ Сталин знал и Бог», – поджала губы Анна Ильинична Егорова, поведавшая по случаю, как оно здесь было в начале войны. Сама она девчонкой была сопливой, но ее мать с собой брала, не на кого было оставить, всех покровских мобилизовали «на рвы».
«Так уж и Бог?» – сказал он, чтобы что-то сказать.
Анна Ильинична посмотрела удивленно:
«А кто еще, милый ты мой. Евфимий к тому времени уж почил, а был бы жив, у него спросили бы. А без Евфимия к кому? Только Господа и вопрошать. У Сталина-то не спросишь, к нему доступа нет».
«А к Господу, значит, есть?»
«Конечно. Потому что между тобой и Господом никого нет. Все остальные – рядом, и родные, и самые близкие, и священники не впереди, они те же люди, такие же».
Он кивнул. Не соглашаясь и даже не показывая тем, что слушает, а напоминая себе, что уже было это, слова такие. Голос был другой, мужской, твердый, крепкий не молодостью, но верой, а слова схожие. И даже перестук колес почудился как сквозь вату, словно издалека.
«Поэтому молись, и услышан будешь. Сам молись, никого о том не проси, не передоверяй. Вон, Евфимий, тот страсть как не любил, когда его помолиться просили, даже о здравии, даже за упокой. Мне мать рассказывала, что серчать начинал, говорил, что всякий на земле грешен, что от грехов в ските не спрячешься, за монастырскими стенами не укроешься, что в грехах своих мы все перед Господом равны, а грешника о молитве просить – что воду болотную пить. Вот как хочешь, так это и понимай. И молись, сам молись. И ответ будет, а как же? Только понять, что сказано, дано не всякому».
«Для этого верить надо, а у меня с верой не очень. В церковь не хожу, службы не отстаиваю, не исповедуюсь».
«Иногда не через веру к молитве приходят, а через молитву к вере. Ты попробуй. И чтобы исповедаться, не обязательно в Бога верить. Ему и того достаточно, что ты душу раскрыл».
«И вы молились? Тогда, в сорок первом?»
«И я, и мать. В те дни многие о вере вспомнили. Толковали между собой: отступились – вот и воздаяние. Только с этим не все соглашались, потому что Господь милостив. Иконы жгли, колокола сбросили, церкви в амбары превратили, но чтобы за это войной карать?»
«И как оно там было, на рву?»
«Тяжко. Деревенские еще ничего, держались, они к такому труду привычные, а вот была там учительница из райцентра, худенькая, беленькая, лицо в конопушках, так она копала, копала, да вдруг осела и глаза закатились».
Читать дальше