На девятые сутки праздника живописец ясно увидел жутковатую картину. С крыши этого дома через проспект протянулась похожая то ли на змею, то ли на колючую проволоку исполинская длинная лиса. Она прямо в окно, сквозь стекло, как-то умудрившись не разбить его и не пораниться, просунула хитрую усатую морду, ощерила пасть с тремя рядами острых зубов и говорит безразлично, лениво, словно нехотя, как само собой разумеющееся:
– Не художник ты, Занзибарский, а говно, я своим хвостом лучше нарисую. Да пачкать его о твои поганые краски неохота. И смысла в том не вижу.
Обиделся матерый живописец не на правду этих слов, он и сам хорошо знал, что он и его работы – говно. Возмутил его снисходительный тон лисы.
– Что же ты думаешь, – обстоятельно возразил он, – если вытянулась на двести метров, то уже все знаешь. У тебя же тело длинное, а не голова. А в теле мозга нет. Шла бы ты работать шлагбаумом. Или пожарным рукавом устроилась. Все бы польза была, только зря людей беспокоишь. Выпей вот со мной. Полегчает от пустоты жизни и ее же бессмысленности.
Посмотрела лиса задумчиво в стакан, прицельно плюнула в него и презрительно процедила сквозь три ряда острых зубов:
– Я пока себя еще уважаю. С дерьмом пить – сама дерьмом станешь. Да и водка эта проклятая – на детских слезах она замешана. Не одной, заметь, слезинке, а море этих слез. Ты классика вспомни. Хотя куда тебе с твоим незаконченным средне-специальным образованием вспоминать того, чего не знаешь, – говорила лиса, все больше втягивалась в мастерскую и сворачивалась в ней вроде бухты каната.
– Брысь, брысь, рыжая, – заволновался художник, – нету у тебя права меня порочить. Ты в художественный совет не входишь. И в Союзе не состоишь.
– Да кто ж тебя, убогого, больше тебя самого опорочить может. Ты же карикатура на человека. Ни таланта, ни мастерства. Только хавальник и пердальник. Вот и весь ты. Жрать да срать, ой, извини, еще пить да ссать – вот и все, что ты можешь.
И опять возразить было нечего. И от обиды, что лиса говорит правду, Занзибарский схватил подвернувшийся под руку этюдник и попытался огреть им лису. Она лениво увернулась, этюдник разбился об пол, кисти и краски фонтаном брызнули во все стороны. Лиса же из центра свернутого в бухту тела стала подниматься вверх точно как змея к дудке факира. И уже от потолка, с высоты шести метров с разинутой пастью нависла над головой художника и начала медленно зловеще приближаться к ней, капая на темя горячей слюной.
Ужас охватил Занзибарского. Жадное дыхание лисы сулило боль, тоску и исключение из Союза художников по причине скоротечной смерти. Он обхватил голову руками и затрясся всем своим крупным телом. Потом отчаянно рванул к выходу, слыша за спиной цоканье лисьих коготков. Весь в пятнах краски прибежал в ближайшее отделение милиции. Здесь потребовал спасти себя от лисы и захотел по всей форме написать на нее заявление. Ему дали лист бумаги.
«Прошу оградить меня от преследования и злобных наветов лисы, которая хотела меня сожрать, но подавилась», – начал уверенно выводить он крупным почерком семинариста, но что-то в собственных словах насторожило его. Он остановился, перечитал, скомкал бумагу и сунул ее в рот. Прожевать не успел. Майор-дежурный попытался мягко остановить.
Занзибарский в любом состоянии власти боялся больше жены, а потому с майором драться не стал. Попытался от него мягко увернуться. Но запнулся о ножку стула, всеми своими телесами обрушился на майора, погреб его под собой. А перед тем как накрыть собственным пузом, случайно зацепился за его погон и сшиб его вместе с фуражкой.
Начальник велел кинуть художника в «обезьянник», чтобы он отоспался и вспомнил себя. Тот забился в угол и поначалу тихо, едва слышно жалобно скулил. Потом начал требовать от соседей, чтобы те помогли ему одолеть поганую лису, иначе она всех сожрет. Честных обитателей клетки это возмутило, они потребовали отсадить больного в одиночку.
Одиночка была такой маленькой, что лиса бы в нее ни за что не поместилась, а потому Занзибарский сначала успокоился. Но хитрое животное стало с улицы рыть подкоп, чтобы просунуть в него кровожадную морду и откусить у художника то, что висит между ног. Вспомнив, что лисы боятся волков, Занзибарский для правдоподобия встал на четвереньки и самоотверженно завыл. Этот вой слышали многие. Он стал одной из причин в длинной череде событий. Лиса притихла, но стоило вокалисту замолчать, как она продолжила работать мощными лапами.
Читать дальше



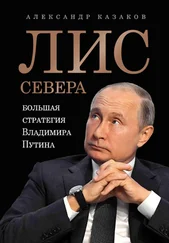
![Александра Малинина - Капкан для лисы [publisher - SelfPub]](/books/395167/aleksandra-malinina-kapkan-dlya-lisy-publisher-se-thumb.webp)






