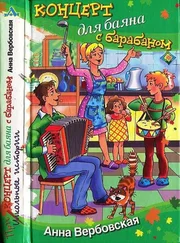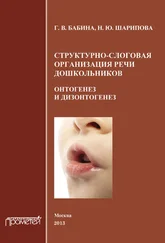Кое-что из того, что я знал о ней, нашлось в рыхлой желтоватой папке, которую мне сунул в последний вечер генерал Рыклин. Другое, куда более важное, я почерпнул из файла «Подстрочник» на рабочем столе нашего с ней компьютера. Когда я впервые развернул его на весь экран, в глаза мне бросилась одна-единственная фраза:
Ты не представляешь, сколько темноты внутри меня .
Хлестнула, как электрический провод. Отчим раз ударил меня таким по ногам. Боль оказалась на ощупь белой и слепящей.
Ты не представляешь, сколько темноты внутри меня.
Перечитал снова. Обращение «ты» встревожило, словно кто-то залез в голову и шерудил там половником, как в кастрюле. Помешивал скисший, застоявшийся мыслительный суп. В детстве слово «мысль» накрепко связывалось у меня с маслом – папа про дурачков говорил, что у них масла в голове не хватает.
Нет, девочка, это ты не представляешь. Отбрось пафос, скомкай свою хвалёную темноту, подотрись ею. У меня своя темнота, прорастающая из развалин, гор и полустершихся лиц «двухсотых».
Я пытаюсь найти в себе любовь и жалость, но луч воображаемого фонарика выцепляет зловонные кучи цинизма и ожесточения.
Я рассмеялся. Нет, скорее хмыкнул.
Эти цитатки прекрасно подошли бы к пошловатым картинкам с ангелами и плачущими голубоглазыми девами с сигаретами и кофе.
Всё, что случалось со мной в жизни, методично учило ощущать фальшь – в подобострастной улыбке горянки, скрывающей ненависть; в обеспокоенном лице военврача; в фильме о войне, которую толстозадый режиссёр не видел даже в новостях. Меня оскорблял воск на глянцевой спинке яблока, синтетика в составе рубашки, напускной энтузиазм продавца в магазине.
Не знаю, почему я не закрыл «Подстрочник» сразу. Наверное, сказалась привычка доводить всё до конца, привитая когда-то Рыклиным. Батей.
Я пытаюсь вспомнить что-то хорошее, связанное с отцом, но никак не выходит.
Не получается.
Надуваю воспоминания, как воздушный шар с дыркой: краснею, напрягаюсь, а воздух уходит, и звук получается мерзкий, неприличный. Резиновый пневмоторакс.
Вспомнила на днях, как однажды в сентябре отец встретил меня из школы. Кажется, у него был отпуск. Я зарубила на себе этот день, потому что никогда больше – ни до, ни после – он не встречал меня. Всё мама. Или бабушка с дедушкой. После седьмого сама начала ходить. Там недалеко, по центру города, через лог не нужно, через гаражи не нужно, – поэтому страшно не должно быть.
«Как оценки?» – спросил отец вместо приветствия, когда мы – кружевные воротнички, форменная клетка – высыпали на крыльцо.
У меня не было ни одной путной пятёрки в тот день, только какая-то чушь типа безопасности жизнедеятельности и музыки, и я промолчала. Он всё равно не оценил бы, ему подавай математику или историю. Лучше историю, конечно.
Мы зашли в Горьковский сад. Небо заливала синева, какой не бывает летом, листья уже начали желтеть, но ещё не рассыпались в труху и не разбухли в октябрьских лужах.
На мне, помню, был жакет с гимназическим гербом и клетчатая юбка, и когда мы сели на скамейку, я всё разглаживала складки, чтобы он не сказал: сверкаешь коленками, дура, одёрнись. С ним такое случалось. Какая-то беспричинная злоба на женщину, которой я ещё не стала.
Однажды я залезла в шкаф в их спальне:
– Пап, смотри, я мамины туфли нашла, мне почти как раз. Я похожа на фотомодель?
– Ты похожа на проститутку. Таких снимают на дороге и хорошо, если заплатят. Шла бы лучше почитала.
Мама ему ничего не сказала тогда. Она редко что-то говорила ему. Почему?
Да всё потому.
К отцовскому дрянному характеру прилагалась квартира на Тихом Компросе, норковая шуба, театр по воскресеньям, возможность учить меня в гимназии на Сибирской и покупать клетчатые юбочки и хорошенькие платья, как у юных англичанок, что гуляют в саду у озера Серпентайн.
Самое странное, что я не знаю, была ли она права. Возможно. Неизвестно, как бы меня покорёжили дворовая школа, макароны цвета мертвечины и шмотки из социального магазина. Нищета калечит душу не хуже богатства. Разумеется, до меня это кто-то уже сказал. Я всегда на вторых ролях. Повторяю сказанное на свой манер. На то и переводчик.
Нам обеим не хотелось обратно к бабушке и дедушке, в их сорок пять квадратов со смежными комнатами. Маме в таком случае полагалось бы ходить через овраг, мимо воющих сторожевиков в гнилых будках, на остановку; смотреть, притопывая старыми сапожками, на дым, который откашливают трубы ТЭЦ; вталкиваться в идущие на завод бензиново-тошнотные автобусы, отслужившие своё ещё в Германии. Секрет Полишинеля: качественные немецкие наклейки с названиями кёльнских и гамбургских штрассе не отмывались со стенок салона, но маршруты пролегали теперь по Чкалова, Кирсанова и Борчанинова.
Читать дальше