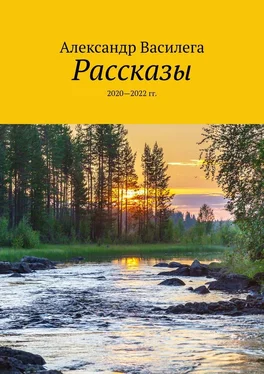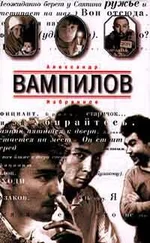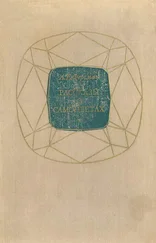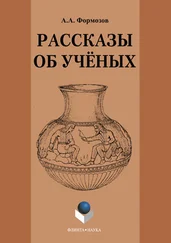По пути мы заехали в соседнюю деревню Косково, чтобы забрать местного егеря Серафима. Пока ожидали Серафима, перекурили, один из местных мужиков рассказал о том, как он прошлым летом ходил с друзьями на дальние вырубки. Рассказчик говорил скороговоркой и для меня его рассказ был очень непонятным, хотя кое-что я всё же понял. Дело в том, что местное население в Холмогорском районе Архангельской области разговаривает на диалекте, который не так легко понять человеку со стороны, особенно из тех мест, где говорят неспешно, протяжно, к примеру, как у нас на Кубани.
Серафим оказался неприметным мужчиной, лет пятидесяти, с пристальным взглядом, невысокого роста, среднего телосложения, разговаривал также как и другие мои попутчики непонятной для меня скороговоркой. Дорога предстояла дальняя – около семидесяти километров по бездорожью среди лесов и болот, поэтому, как только Серафим уложил свои вещи – тронулись в путь.
Это путешествие мне предвещало много интересного, поскольку я вырос в кубанских степях и никогда не бывал в настоящей тайге и не видел настоящих топких болот. Неизвестность манила, а предчувствие приключений только добавляло настроения.
Через некоторое время я почувствовал все прелести езды в кабине, несмотря на громкий рёв двигателя и некоторое количество газов, попадавших в кабину от работы двигателя. Моим попутчикам повезло меньше – свежий ветер от быстрого движения недолго добавлял им хорошего настроения. Как только мы въехали в лес, преимущества их положения закончились – лесная дорога, по которой мы ехали, была таковой лет двадцать назад. Теперь же это была поросшая мелким березняком и ивняком просека, вся в ямах и колдобинах. Нависающие со всех сторон ветви молодых деревьев жестко хлестали моих попутчиков. В какой-то момент они взмолились и запросились в кузов.
Так проехали мы еще часа полтора – два. Серафим постучал по переборке, это означало, что нужно остановиться. Объяснив Петровичу, как нужно проехать к охотничьему домику, мы продолжили путь и уже минут через десять оказались на небольшой лесной поляне с приземистой покосившейся от времени небольшой бревенчатой избой. Оказалось, что это и есть охотничий домик. Снаружи это был старый сруб, сложенный из потрескавшихся и поросших мхом брёвен. Изба была покрыта полу прогнившими досками, с торца – низкая входная дверь, а в боковой стене небольшое окошко. Из крыши торчала железная труба, свидетельство того, что внутри есть печь, и это радовало.
Выгрузившись из вездехода, мы открыли избу и вошли внутрь. Я много слышал о таких избах в лесу, но бывать в такой избе не приходилось. Слышал о и том, что охотники, уходя из избы, всегда оставляют после себя порядок, сухие дрова, спички, продукты – соль, крупы. В этой избе так и было – половину комнаты занимал настил для сна, в другой половине – большой стол, окруженный грубо сколоченными лавками. Посередине избы стояла печь – буржуйка. На стене висел шкафчик, в котором мы обнаружили небольшой запас круп, соли и коробок спичек. Дощатый пол перед уходом подмели, так что в избе было относительно чисто. В целях экономии времени топить печь мы не стали, тем более, что я с собой взял большой термос с вкусно заваренным чаем. Разложив на столе свои припасы, и горячительный напиток под названием «шило», мы приступили к трапезе. Обед на природе в мужской компа-нии, да ещё с крепким напитком, всегда удаётся. После чаепития некоторые улеглись отдохнуть на нары, кто-то закурил. Как-то само собой завязался разговор о Келдозере. Самым просвещённым оказался егерь Серафим. Он расска-зал интересную историю об этих местах. Оказывается, что ещё в начале двадцатых годов сюда были переселены монахи Соловецкого монастыря. Переселили их сюда из-за того, что на территории монастыря был создан лагерь Особого Назначения НКВД. Монахов вывезли на Келд-озеро, где издавна располагались три старообрядческих скита. Здесь-то и разместили Соловецких монахов: одно поселение при впадении реки Бобровки в Келдозеро, второе – на озере Боброво, не доезжая шести километров до Келдозера, и третье – на Лодьмозере, в двадцати километрах от Келдозера на север. Власти старались создать монахам невыносимые условия, для чего поселили с ними людей из преступного мира, уголовников, которые исполняли роль надзирателей. Ссылали сюда и верующих мирян, и простых людей, объявленных советской властью врагами народа. В эти места был сослан и настоятель храма Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин. Но были в тайге и вольные поселенцы: на Лодьмозере осели соловецкие монахи Алипий и Гедеон, пришедшие туда добровольно вслед за Вениамином, на Колозьме в четырех избушках жили еще несколько монахов. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы в этих местах образовались так называемые «потаённые Соловки». До наших дней сохранилось описание поселения в поселке Келдозерский у озера, где проживали монахи. Там было четыре барака. В одном из них была устроена маленькая домовая церковь.
Читать дальше