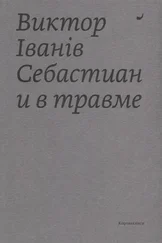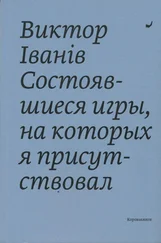И умучившись этими суккубками, взялся письмо писать – где все это излагаешь на 13 страницах, в линейку – белая тетрадь, сочинение – «бред Андрея Болконского». И показываешь той, второй. А для нее это – гром среди ясного неба. И за бредом не успевая, не знает, что ответить. А ответ – вопрос жизни и смерти. И отвечает, наконец, уязвляет в самое сердце и жмет плечами. И отправляется в путешествие далекое в Подмосковье – куда едут лучшие медики, математики, конкурсанты. И твой новый друг, написавший поэму об Адаме и Еве, – красивый смуглый брюнет, высокий, как Маяковский, который один во всей школе, быть может, умеет мыслить, не так, как ты – картинами и словами отдельно, а что второй Декарт, настоящими мыслями, и крючковатым почерком синими чернилами эти мысли выводит в тетрадке. И получается – холодна эта О., благодаря поездным приключениям друга. Но – появляется друг. Но его принимают в компашку – в которую путь тебе был заказан. А друга коронуют, вносят на руках на двор в белой одежде, белой, как саван, который ты в Мекке дальше продолжаешь нести. Но – друг, который с тобой говорит, ничего от тебя не скрывает и которому есть дело до исповеди твоей, до змея и всадника, штатива с «закладом», и только «святую рептилию» ты ему не можешь открыть.
* * *
Началось христианство на полке. Там, где прежде стояла новая офтальмология с упражнениями для глаз исцеляющими, оказалась такая же книжечка – из тонкой бумаги, такой тонкой не видал прежде, и в фиолетовой обложке, коленкоровой? или из искусственной кожи. Начал читать – не понятно ни слова, но каждое слово – словно свыше приказ. И читаешь на десять раз, все равно не понятно. Как же я могу не понимать, а уже твержу в голове? Грозные слова, особенно про меч, выходящий из уст, не мир, но меч, и про оставь домашних твоих. А когда оставил домашних, стало ясней – помогли и картинки из комиксов, мультяшный образ создав, но только понятно, назад дороги не будет. Отвергнуть надо себя. Но поставил на место пока – на полочку – где ларчик – гроб хрустальный, с подушечкой, а в нем украшения бабушкины, часы старинные, жемчужины, перстенек. Верить надо каждому слову из книжечки, да и прежде ведь верил, но вот в правдивости усомнился книжек тех, что до этого открывал.
НАЧАЛ КУРИТЬ
…
СТАЛИ ЛЕЧИТЬ
II. Солнечный и Гибралтарушка
Расцветшая кожурка помоев, прослезившихся даже тонких мешков – не тем мужиковатым и жутковатым настоем эмалированного ведра – была подкожной жизнью сгнивших чувственных людей. И эта искусная чувственность, любопытство поползновений, подметанная заплатка на плеши колен с приплюснутой и заискивающей улыбкой скрывали грозовое нытье, бередень нянек, циклопедию промывания допросин простенков и измордованных кум. На жмуди разбивалась похотливая роскошь, страница рассвета, и за ними гналась с тетрадной мухобойкой хвостатых жгутиков, картофанов в мундирах и жмурок. Калач посыпной входил в соседний подъезд, а желе вскрикивало от ужаса. От съеденного не было сытного тепла, от припека не было попрека, что она умерла. Голубика цвела, повилика вилась, а кочерыжка позади всего плелась.
Нет ничего лучше сонливого утра с гулкими головой солнца и подошвами земли, когда миражатся дымчатые потягушки сна и тусклые, как никотиновая паутинка, мысли. Лучше этого утра только утро, когда просыпаешься чумной от лежания на неудобных детских стульях импровизированной кровати или на неловком верстаке каптерки. А лучше этого утра только утро, обремененное тяжелой головой легкой, улетающей, как облако ночи, сладкой, как нектар. Лучше темноты бдения нет ничего, разве это солнце, ярко бьющее в окно. А лучше этого утра только августовский прохладный день, проведенный за чтением приключений, и прогулка до почты, которая приносит книгу, где приключения эти не только уже распеты на все лады, но и обещают сумеречное забывание около пятого часу.
Почему-то одна деталь, как блесток блесны, как рыбонька замирает в натужных тупиках воспоминания: жарит сандалии, гудронные отпечатки таких детских утех, десять часов залегающих на верхних полках шкафов без малейшей пылинки, по которым вечное солнце смотришь, и впрямь ударяет в окно – в окно витрины утреннего магазина с политым асфальтом. Почему-то она деталь только остается, как кусочек мыла, а вокруг большие бензиновых разводов пузыри. Лиловые, пунцовые, как в прочитанной книге с забытым автором. Когда же читаешь эту книгу, густо измазанную чернилами ночи бутербродной, с картинками про Кубулу и Кубу-Кубикулу, – то сказка – аспириновая, чувственная, небывалая даже расступается веселого леса, и тянется до самого Гибралтара, где солнышко уходит в море, булькая таблеткой в подземное царство, из которого есть обратная, короткая дорога, одно мгновение возврата, хотя туда клубочку катиться далеко-далеко, пугаться страшно, до обморо́ка.
Читать дальше

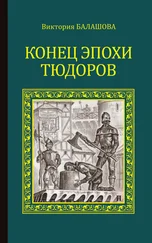






![Виктор Ким - Реалрпг почти конец истории-3 [СИ]](/books/417230/viktor-kim-realrpg-pochti-konec-istorii-3-si-thumb.webp)